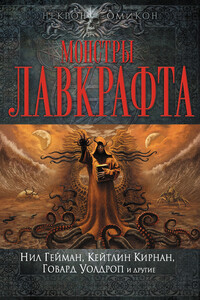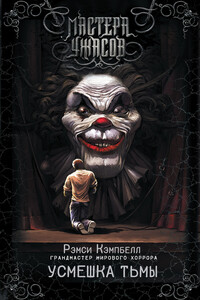Черные крылья Ктулху | страница 13
Тут изображение начинает мерцать, экран вспыхивает слепящей белизной, и в первое мгновение мне кажется, что кинопленка, по счастью, застряла, так что, может статься, смотреть дальше мне не придется. Но женщина тотчас возникает вновь, и заводь тоже, и ивы, — картина воспроизводится кадр за кадром. Женщина стоит на коленях у края заводи, и мне вспоминается Нарцисс, оплакивающий Эхо или своего утраченного близнеца; и ревнивица Цирцея, отравившая затон, в котором купалась Сцилла; и проклятая леди Шалотт Теннисона>{32}, а еще мне снова приходят в голову Персей и Медуза. Самого этого существа я не вижу, вижу лишь неясного, обманчивого двойника, и разум мой цепляется за аналогии, и смыслы, и ориентиры.
А на экране Вера Эндекотт или Лиллиан Маргарет Сноу — та или другая, эти двое всегда были едины, — наклоняется вперед и погружает руку в озерцо. И снова никакой ряби не расходится по гладкой обсидиановой поверхности. Но вот женщина в фильме начинает говорить, ее губы нарочито двигаются, не производя ни звука, так что я слышу лишь невнятное бормотание в прокуренном зале да потрескивание проектора. Именно тогда я вдруг осознаю, что ивы — это вовсе не ивы; все эти изогнутые стволы, ветви и корни — на самом-то деле переплетенные человеческие тела, мужские и женские, и кожа их в точности имитирует слоистую ивовую кору. Я понимаю, что никакие это не лесные нимфы, не дочери Гамадрии и Оксила>{33}. Это пленники, это приговоренные души, навечно скованные за грехи свои; какое-то время я могу лишь потрясенно глядеть на беспорядочное смешение рук и ног, бедер, грудей и лиц, на которых бессчетные века оставили отпечаток неизбывной агонии этого искажения и преображения. Мне хочется обернуться и спросить у соседей, видят ли они то же, что и я, и как достигается подобная иллюзия, ибо все эти люди наверняка знают больше меня о прозаической магии кинематографа. Хуже того, тела не вовсе неподвижны; они еле заметно подергиваются, помогая ветру колебать длинные лиственные ветви туда и сюда.
А затем глаза мои снова обращаются к озерцу: оно задымилось, над водой тягуче клубится серовато-белый туман (если это по-прежнему вода). Актриса еще ниже наклоняется над странно неподвижным затоном, и я понимаю, что меня тянет отвернуться. Какое бы существо ни пыталась она призвать или умилостивить в тот запечатленный кинооператором момент, я не хочу его видеть, не хочу узнать его демонический облик. Губы ее по-прежнему шевелятся, руками она помешивает воду, поверхность которой между тем остается гладкой как стекло, словно ее и не тревожили.