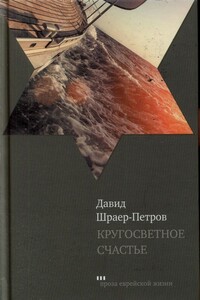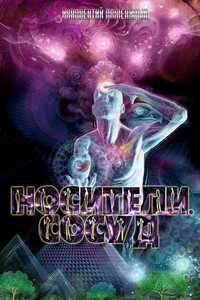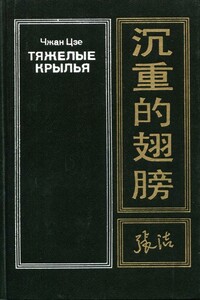Желтая лихорадка | страница 25
Иногда мне самому начинало казаться, что Восьмая монтажная заколдована, проклята. Буря сорвала провода высоковольтной линии, вездеходы застревали в глине, на склоне холма образовался оползень. Я созывал бригадиров, чтобы посоветоваться и принять какие-то срочные меры.
— Ты опять уходишь? — всплескивала руками Илонка. — Будь осторожен, Геза.
И я трясся на вездеходе, рискуя перевернуться, уходил из каменного дома, из-под противомоскитной сетки, из относительной защищенности от эпидемий, уходил туда, где рвались провода электропередачи, к загадочным племенам, в их хижины. Монтажные работы, которыми мы занимались, были лишь частью гигантского строительства мощной гидроэлектростанции, высоковольтной линии электропередачи.
— Это вам самим нужно, для вас. И нужно срочно! Переведите, — кричал я переводчику. — Почему вы то и дело забираете своих рабочих у наших специалистов? Зачем вы разрушили уже установленные бетонные опоры?
— Это не так делается, — сказал Балаж, когда после четырехдневной изнурительной поездки я вернулся на монтажную площадку. — Если что-то не в порядке, ты посылаешь докладную в Будапешт. А там уж министерство примет меры, смешанная комиссия обсудит, вынесет решение, уведомит о нарушении договора соответствующее здешнее министерство, комиссия на месте расследует…
— Да ты с ума сошел! Тогда ни плотины, ни гидростанции, ни турбины и вообще ничего не будет здесь сделано, установлено, построено во веки веков.
— Верно, — согласился Балаж. — Только не хочешь ли ты сказать, что приехал сюда строить социализм? Ты здесь, дорогой друг, для того, чтобы заработать себе денег. Как можно больше! Разве нет?
Илонка, неужели это мы? Те самые, что в двадцать лет, оборванные, голодные, долбили кирками землю на строительстве железнодорожного моста? Те, что строили техникум, работали бесплатно, по ночам учились, а в день Первого мая шли на демонстрацию с букетами сирени, и красные стяги развевались над нами на светлом ветру? Алчные, обезумевшие гарпагоны и гобсеки — это мы? Это мы по вечерам, сев рядышком, подсчитываем, сколько долларов скопилось у нас на счете в банке Фрипорта, и прикидываем, не лучше ли вклады в долларах перевести в швейцарские франки, потому что франк есть франк? Неужели это мы — те, кто не дружит ни с кем в колонии, ни с семьей французского инженера, ни с монтажниками из Швеции, потому что видим, как они приезжают из Фрипорта, привозя оттуда замечательные куски говядины, красиво, аккуратно завернутые в целлофан, яблоки, упакованные — каждое в отдельности — в шелковистую бумагу, норвежскую красную икру, мороженую вишню и французское шампанское? Разве мы вправе принять от них приглашение на ужин, зная, что не сможем ответить им тем же? Не говоря уж о том, что и французский инженер, и швед-монтажник, и венгерские крановщики, шоферы, инженер-электрик и приборист — все они на тридцать лет моложе нас и зовут нас дядей Гезой и тетей Илонкой. В общежитии венгерских монтажников, в длинном бетонном бараке, одни только холостяки, которые устраивают грандиозные попойки (мешают пиво с какой-то гадостью) и карточные сражения в «ульти». Но я не люблю карты и ни разу не ходил к ребятам уже по той причине, чтобы не оставлять Илонку одну. С наступлением темноты мы забирались под москитные сетки и пытались поймать через реки, пустыни и джунгли заплутавшуюся радиоволну или писали письма девочкам, будапештским друзьям и брату Фредди в Янгстаун, в штат Огайо, чем-то напоминая потерпевших кораблекрушение, бросающих в море бутылки с записками.