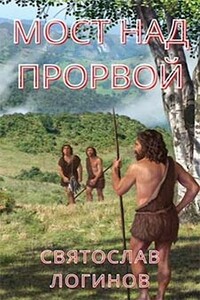Exegi monumentum | страница 12
Но здесь тетки не было.
Еще не веря себе, я вошел в прохладный, пахнущий чем-то домашним подъезд: нет тетки! Сжавшись, приготовившись чуть что заковылять наутек, я стал подниматься по каменной лестнице. Поднялся. ГУОХПАМОН — снова сверкнуло в глаза. И нарисованная на стенке рука, указывающая на дверь: туда, туда, где, по всей вероятности, живет фараон.
Толкусь перед дверью. Открыть? Но вдруг тетка там? Открою, а тетка: «Пропуск!» Или так: «Вы к кому, гражданин?» Что я скажу? И все же я отважно схватился за ручку двери. Открыл чуть-чуть, нос просунул, очки.
— Да входите же! — певучий такой голосок; контральто, кажется, низкий, добрый.
— А к вам,— говорю,— в самом деле можно?
— Отчего же нельзя? Входите!
Вошел.
Пустая большая комната. В окошки ветви деревьев ломятся, тень. По-домашнему занавесочки в окнах колыхнулись, когда ступил за порог. К окошку боком письменный стол, за столом... Татарка? Казашка? Раскосенькая, и черная челка над лбом.
— Из какой вы организации? — спрашивает. И хитро-прехитро на меня посматривает. А может, и не хитро: азиатские раскосые глаза всегда кажутся лукавыми, хитрыми.
— Не из какой, я так просто.
— А, понимаю. Шли, шли и зашли?
— Вот именно. Шел и зашел.
Из-под челки глаза-угольки смеются.
— Так вы что же стоите? Садитесь!
Встает, выходит из-за стола, придвигает мне стул. Казашка, пожалуй. Или всего лишь татарка? Миловидная, красивая даже, только все у нее какое-то... удлиненное. Удлиненное личико; пальчики удлиненные, не пальчики, а персты. Когда вышла из-за стола, видать ее стало всю: из вельветовых коричневых брюк бежевого цвета туфельки-босоножки смотрят, из босоножек — пальчики ног. Тоже какие-то удлиненные, а оттого, что ногти на них вызывающе покрашены пунцовым каким-то лаком, они кажутся еще удлиненнее.
— А можно у вас курить?
— Что вы все заладили: «можно» да «можно»? Все можно. То есть,— усмехнулась,— конечно, не все, а только в пределах приличий, а так-то вообще не спрашивайте. Сидите курите. Я, пожалуй, и сама покурю. У вас какие?
— «Дымок»,— засмущался я окончательно.— Рабоче-крестьянские, лютые. Если хотите, пожалуйста.
— Нет, что вы! И впрямь лютые. Крепкие слишком. Я уж с фильтром.
Я пошарил в кармане, достал неприлично смятую пачку. Она выдвинула ящик стола, порылась, на стол положила «Camel»: рыжий верблюд созерцает выжженную пустыню. Опять пустыня...
— А ГУОХПАМОН — это кто? Или что?
— Не знаете?
— Нет, не знаю.
— Честно, не знаете?