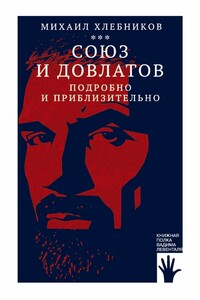Реалии отечественной фантастики | страница 3
Кто пришел на смену певцам «бесплодного делячества»? Здесь можно назвать двух главных авторов тогдашней «актуальной фантастики». Иван Ефремов своим романом «Туманность Андромеды», вышедшим в 1957 году, вернул в жанр не только космическую тему, но и создал интересно проработанную картину человечества XXXIII века. Естественно, что к этому времени победа коммунизма будет безусловной. Технические аспекты будущего даны эскизно и вряд ли способны удивить нас спустя шестьдесят лет после выхода романа. В мире «Туманности Андромеды» присутствуют «скоростные» поезда, выжимающие 200 км/ч, космические корабли управляются переключением рычагов и кнопок. При этом этические и социальные проблемы, которые поднял Ефремов, не потеряли своей актуальности до настоящего времени и, думаю, будут предметом обсуждения еще долгое время. Понимал важность «человеческого фактора» и сам автор, высказавшийся о перспективах развития жанра в следующих словах: «Не популяризация, а социально-психологическая деятельность науки в жизни и психике людей — вот сущность научной фантастики настоящего времени». Это говорит о том, что «научность» фантастики является важным, но всего лишь компонентом ее успеха. В следующей книге — «Лезвие бритвы» — писатель попытался сформулировать медицинские, психологические, эстетические основания для появления того типа человека, который будет разгадывать тайны Вселенной в том самом XXXIII столетии.
Вторая знаковая фамилия — братья Стругацкие, создатели «Мира Полудня», в котором рисовалась картина всего лишь XXII века. И в ней будущее также за победившим коммунизмом. В отличие от линейных романов Ефремова, Стругацкие используют мозаичный принцип: рассказы и повести, составляющие цикл, дополняя друг друга, постепенно детализируют счастливый, гармоничный мир будущего. То, что у автора «Туманности» дается широкими мазками, приобретает у авторов «Полудня» силу и противоречия конкретности. Противоречия нарастали синхронно с изменениями в общественном сознании, произошедшими в годы так называемого «застоя». Реализация коммунистических перспектив откладывалась на срок, может быть, даже дальше эпохи Дара Ветра. Сомнениями успел поделиться и сам Ефремов в романе «Час Быка». Семидесятые — время нарастания скептицизма не только в творчестве Стругацких, но и у их читателей. Влияние было взаимным. Кто-то назовет это взрослением, которое очень быстро перешло в нигилизм и растерянность. Вопрос был не в крушении общества, а в его сроке. При этом формально советская фантастика процветала, немногочисленным авторам, сумевшим пробиться в печать, было трудно жаловаться на отсутствие читателя. В условиях книжного дефицита покупался не отдельный автор, покупался жанр как таковой.