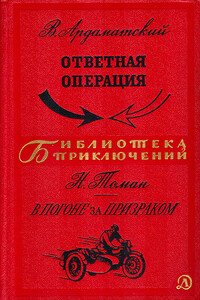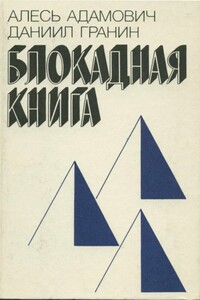Повести о войне | страница 44
В печке стоят чугунки. В том, который поближе, черные угли. Я достал второй, с выкипевшим почти до донышка супом, он еще тепловат, я несу чугунок в ладонях, но боли не ощущаю, забыл про боль. Ставлю мамин обед на скамейку, достаю из кармана ложку. Пробую, съедаю немного напитавшегося дымом, горечью супа, передаю ложку Глаше и беру из ее рук очищенную картофелину. Глаша попробовала и тихонько положила ложку.
Кончили завтрак, Глаша аккуратно смахнула со скамейки на «поднос» очистки, гарь. Чугунок я отнес и поставил назад в печку. Боль вернулась в руку и я шел по нашему саду, касаясь тепловатых деревьев, поискал среди яблок не сгоревшее, зеленое, надкусил его и приложил к ладони. Земля вся усыпана черными яблоками. Их столько, что идешь по ним, наступаешь, как на что-то живое… Вот что белело ночью на заборе — клочья от белья, причудливо обгоревшего. Его тут искрами засыпало от нашей и от Юстиновой хаты. Но почему его не заорали с собой: не смогли, не успели? Тревога снова окатила меня холодным потом.
Глаша смотрит в небо. Да, уже летает. Она всегда над нами, когда нам плохо, — немецкая «рама». Партизаны не раз пытались сбить, но не удавалось. Говорят, что она бронированная.
«Рама» удаляется в сторону леса, нам тоже туда.
Когда после войны мне приходилось летать в самолете, все время привязывалась мысль: вот так, вот такими видела землю, хаты, нас, людей, та «рама», видел он — кто-то обобщенно гнусный. Ему, именно ему, не время еще видеть землю, человека с такой высоты, с которой все кажется незначительным, макетным, условным. Наверное, даже не со злостью, а весело гонялись «мессеры» за беженцами, когда те, как муравьи, рассыпались с дороги. Вот так же целился бы из черного космоса в стеклянно-голубой шарик, которым любовались, счастливые, что они — люди, первые космонавты…
«…Слушайте, Флориан Петрович, что это у вас опять?»
С этими словами обычно появляется в моей квартире Борис Бокий, мой бывший аспирант, а теперь тоже кандидат наук, психолог. Я его никогда не видел, знаю только голос, пожатие тонкой сильной руки, быстрые шаги, энергичные, шумные движения: он для меня что-то черненькое, сверкающее, острое. Наверное, худенький, маленький брюнет с тонким и большим носом, «вольтеровским». Я когда-то отметил для себя, что люди со смешным, птичьим лицом обязательно ироничны, предпочитают, чтобы насмешка исходила от них, а не следовала за ними.
Портфель у моего Бокия всегда набит книгами, журналами, оставляет его у порога с таким стуком, будто с плеча сбрасывает. И тут же выкрикивает новости: оправдали еще одного коменданта лагеря, портретами «человека-солнца» колотят по головам детей и женщин (семьи изгоняемых дипломатов), лейтенант Колли «наказан» домашним арестом…