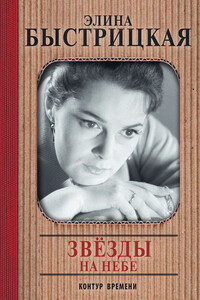Легенды Потаповского переулка | страница 50
И тут Б. Л. выложил нам, словно долго скрываемые козыри, что он только что с телеграфа, где полчаса назад отправил телеграмму об отказе от премии в Стокгольм. Мама очень огорчилась. Я тоже расстроилась.
В этот день, как и почти в каждый трудный для нас день, с нами была Аля Эфрон. Приткнувшись в углу красного дивана — ее обычное место, — она с утра сидела с бесконечным вязаньем под бесконечные звонки, деля с нами горести Нобелевского отличия. Она подошла к Б. Л., поцеловала его и сказала: «Вот и молодец, Боря, вот и молодец». Не знаю, насколько она разделяла это решение. Впрочем, оно вполне укладывалось в ее «патриотическую» схему.
Текст отказа был тут же передан по радио и широко распубликован.
Кажется, именно 31 октября на Общем собрании писателей г. Москвы и родилась идея: «Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?» (Выступление С. С. Смирнова.) Собрание обратилось к правительству с просьбой лишить предателя Б. Пастернака советского гражданства.
В начале собрания было зачитано письмо Б. Л„после чего пошли выступления. Особенно рьяно пытались отмежеваться от Иуды «интеллигенты», такие, как К. Зелинский, например. Этот бывший конструктивист заявил, что произнести сейчас имя Пастернака все равно что издать неприличный звук в обществе. Корнелий Люцианович был руководителем семинара критиков в Литературном институте, который я посещала. Как ни одиозно было его преподавание, такого выступления от своего руководителя я не ожидала — в нем был все же известный польский лоск, следы былой эрудиции и рафинированности. Кроме того, в 1957 году он лежал в больнице в Узком одновременно с Б. Л., и они даже — на почве общих анализов — как бы приятельствовали. И тут! И «нож в спину», и «Иуда», и «замаскировавшаяся и дурно пахнущая мерзость», и «извилистый враг», и трогательные сетования на «слишком снисходительную воспитательную работу среди писателей»! Это среди 75-летнего Корнелия Полюциановича (как дразнили его в институте) воспитательная работа! Досталось рикошетом и Коме Иванову. Злопамятность Корнелия поразительна — он призвал развенчать «лжеакадемика» Иванова, не подавшего ему руки из-за газетной статьи о Пастернаке.
Как после этого могла я вернуться в институт, ходить на этот семинар, слушать наставления Зелинского? Уже в ноябре мне пришлось просить о переводе на другое отделение, на самое «нейтральное» — переводческое. У нас было две переводческие группы — литовская и таджикская, и В. Россельс, заведующий, пожалел меня, — все поняв, перевел в «таджики».