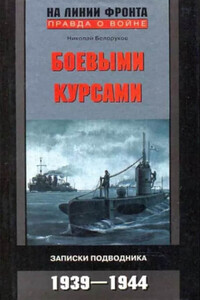Легенды Потаповского переулка | страница 20
Апрель 1953 года. Впервые за много лет в Москву пришла настоящая весна, и с шумом ручейков, буравящих Чистопрудные сугробы, сливался шепот новостей, передаваемых друг другу фантастических слухов, звучали имена, доселе произносимые с оглядкой… Что сравнится с весной накануне освобождения? В открытке, отправленной в этот же самый день (все так же от имени бабушки), Б. Л. писал маме: «Как близко, после обнародованного указа, окончание этого долгого страшного периода! Какое счастье, что мы дожили до часа, когда он остался за плечами!..»
Первая послесталинская амнистия (буквально через несколько дней после похорон вождя народов) во многих вселила надежду. Казалось, что и наверху спешат покончить с ужасным наследием и скорее, не разбирая вин и статей, освободить как можно больше людей — освобождались все заключенные, имеющие срок до пяти лет включительно по всем статьям. Разумеется, политических среди них было немного. Москва наполнилась уголовниками в бушлатах, вокзалы были забиты освобожденными, обыватели запирались на все засовы — жизнь, пинаемая, зажатая, озлобленная, ворвалась в город, наполнив его матом, вшами, запахом и голосом беды… С «первым эшелоном», с этой мутной стотысячной волной «указников» вернулись и немногие политические пятилетники — среди них моя мать.
Мы ждали этого со дня на день, и вот он — предрассветный треск старого звоночка «Прошу повернуть» в нашу набитую детьми, стариками, квартирантами, а также страхами и бедами квартирку. «Мне четырнадцать лет, через месяц мне будет пятнадцать»… Кубарем скатываюсь с кровати, мы прыгаем с братом вокруг моложавой худенькой женщины, одетой в страшную телогрейку, с грязным мешком — и с милым, забытым лицом. В душе — ничего похожего на когда-то пережитый детский ужас перед вернувшейся «оттуда» бабушкой — наоборот, ликование, освобождение: кончились школьные страхи, увертки, мучительные басни, которые я сочиняла, чтобы обмануть бдительность подруг… Никогда уже не придется мне, как было однажды, резать себе руку бритвой, чтобы выбежать из класса якобы к врачу, а на самом деле спасаясь от нежданной анкеты, проводимой новым завучем — профессия родителей… И чего я этого так боялась? У детства свои химеры. Все позади, отроческий кошмар рассеялся! Никаких посылок, никакого Перова, никаких больше квартирантов — нквдешников!
На улице весна. Я кончаю десятый класс, завтра — первый экзамен. У меня совершенно молодая и очень милая мама! Надо сказать, что и потом в свою лагерную бытность я не раз сталкивалась с этим чудом женской лагерной моложавости, — несмотря на тяжелую работу и скверную пищу, иная заключенная, «отволокшая» уже десятку, на вид — полуподросток, стройна, загорела, не то сорок, не то двадцать. И отсутствие косметики, которой мама не пренебрегала на воле (Б. Л. часто ей выговаривал: «Олюша, не наводись. Бог тебя не обидел!»), и выгоревшие волосы, и даже сломанный зуб спереди — не портили ее, а наоборот, как-то освежали.