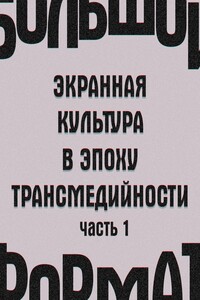Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3 | страница 37
В сокуровском художественном космосе со всей очевидностью доминируют и подвергаются метаморфозе звуковые образы и смысловые связи эпохи романтизма, прошедшие в ХХ веке стадии стереотипизации и смыслового возрождения. Музыкальные опыты творческой лаборатории мастера оказываются чрезвычайно созвучными современной эстетике транссентиментализма, которая, по словам М. Эпштейна, возникает в культуре как итог постмодернистского миросозерцания,
«сентиментальность после смерти сентиментальности, прошедшая через все круги карнавала, иронии и черного юмора, чтобы осознать собственную банальность – и принять ее как неизбежность, как источник нового лиризма»> [17].
Исследователь констатирует:
«становится ясно, что все „банальные“ понятия не просто были отменены, они прошли через глубокую метаморфозу и теперь возвращаются с другой стороны, под знаком „транс“»> [18].
Не случайно неоднократное использование Сокуровым стилистически «вторичных» музыкальных образцов, балансирующих между эмоциональной искренностью и языковой симулятивностью – так называемого «Adagio» Т. Альбинони (мистификации Р. Джадзотто), аллюзивной музыки Т. Такемицу, О. Нуссио, оригинальных стилизаций А. Сигле, – наряду с вариативно повторяющейся пространственной рекомпозицией> [19] романтических опусов М. Глинки, Р. Вагнера, Г. Малера и П. Чайковского> [20]. Под знаком «транс» происходит и симптоматичное расширение романтико-сентиментального спектра образности сквозными линиями музыкального барокко (И. С. Бах, Г. Телеман, Г. Перселл, Д. Скарлатти) и классицизма (В. А. Моцарт, Л. Бетховен), а также настойчивое приобщение к локальным национальным традициям Дальнего Востока. Преемственность с вагнеровским Gesamtkunstwerk подтверждается в метатексте Сокурова и особой ролью звучаний из опер композитора, среди которых ключевым становится музыка Похоронного марша на смерть Зигфрида из «Заката богов» – заключительной части тетралогии «Кольцо нибелунга». Как известно, вагнеровский марш является трагическим итогом, обобщением развития мифологического действа о Нибелунгах, завершающегося искуплением зла в мировой катастрофе. Контекст Второй мировой войны придает музыкальной теме композитора общепланетарный смысловой масштаб (траурная музыка по убитому Зигфриду когда-то была официальной пьесой, сопровождавшей похороны высших чинов гитлеровской армии). В фильмах Сокурова эта музыкальная тема становится точкой смыслового притяжения, особенно востребованной в контексте художественной рефлексии о власти (последняя в концентрированном виде представлена в тетралогии на данную тему). Более того, с идейными концепциями фильмов оказывается соотнесенной символика отдельных элементов музыкальной темы. Так, вагнеровский мотив смерти вплетается в ткань документального повествования-размышления о войне на таджико-афганской границе в фильме «Духовные голоса» (1995). Мотивы судьбы и страдания Вельзунгов звучат в картинах тетралогии – в эпизодах, связанных с пограничными состояниями сознания протагонистов: в «Молохе» (1999) это случай внезапного погружения Гитлера в сон в сцене послеобеденных рассуждений о судьбах стран Европы, в «Солнце» (2004) – сцена перед видением Хирохито в бункере. В «Восточной элегии» (1996), появляясь в туманных кадрах с ветхой японской архитектурной архаикой, мотив страдания Вельзунгов, запечатляющий образ мыслящего Хаоса, участвует в создании аудиовизуальной метафоры космогонического мифа.