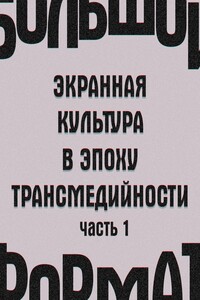Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 3 | страница 35
«Почему люди не видят, что искусство уже создано, и нового искусства быть не может?»> [11].
Обозрев характерную для Сокурова картину поисков экранной формы, можно констатировать показательные тенденции. С одной стороны, очевидна склонность к превышению временной нормы полного метра (характерные примеры картин свыше двух часов – «Спаси и сохрани» (168 мин.), «Дни затмения» (137 мин.), «Фауст» (137 мин.)). С другой наблюдается наличие собственно многочастных форм. Сюда отнесем сознательно конструируемые как серийные: документальные пятичастные телевизионные видео-дневники об армейской жизни «Духовные голоса» (1995) и «Повинность» (1998), шестичастную «Интонацию» (2006), игровые тетралогию и трилогию; а также большое количество автономных документальных, преимущественно малых форм, алеаторически объединяющихся по тематике или жанровому признаку в разомкнутые циклические образования (сюда отнесем японский и петербургский видеоциклы> [12], многочисленные дневники и элегии).
Характерная тенденция к мозаичности большой формы достигает апогея в полнометражном телевизионном фильме «Читаем блокадную книгу» (2009, 96 мин.), построенном как нанизывание девяносто одного краткого эпизода чтения жителями Санкт-Петербурга «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Другой пример – «Ленинградская ретроспектива (1957—1990)», запечатлевающая тридцать четыре года из жизни Северной столицы в пятнадцати частях (всего 13 ч. 8 мин.), каждая из которых (около 40 мин.) содержит фрагменты хроникального материала за временной отрезок в два-три-четыре года (одночастевые киножурналы «Ленинградской кинохроники»). Течение исторического времени в этом фильме интерпретируется с точки зрения значимости тех или иных событий в каждый новый момент развития общественного самосознания (последняя фиксируется в движении хронологической линейки, расположенной у правого края кадра). Закономерным способом придания кинематографической форме особой континуальности и пластичности становится постепенное снижение значимости кинематографического монтажа. Сначала эта тенденция проявляется в создании максимально возможных по протяженности, в условиях пленочного кино, кадров (таков, например, десятиминутный план с потомком Ф. Шаляпина в «Петербургской элегии», 1990), затем – при использовании формата Betacam и компьютерных технологий – длина возрастает втрое (в картинах «Духовные голоса» (1995), «Петербургский дневник. Открытие памятника Достоевскому» (1997)) – вплоть до известного прецедента реализации уже в условиях технологии High Definition мизансцены полнометражного экранного действа внутри одного плана («Русский ковчег», 2002). Обозначенная склонность к сочетанию масштабности и миниатюризма, разнообразным метаморфозам аудиовизуальной формы отвечает изменчивости и текучести как главным свойствам романтического мирочувствия. Неслучайно метафора Потока возникает как одна из характерных моделей музыкального именно в романтическую эпоху