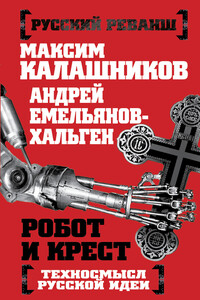Большой формат: экранная культура в эпоху трансмедийности. Часть 1 | страница 46
Возьмем примеры из другой эпохи – Просвещения. В это время на Западе наблюдается всплеск интереса к «большой форме». Прежде всего, это просветительский роман – роман путешествий, роман приключений и роман воспитания. Максимально «большую» романную форму мы имеем в лице трехтомного романа Дэниэля Дефо о Робинзоне Крузо, соединившего в себе черты приключенческого, нравственно-дидактического и религиозно-философского повествования. Признание автора (незадолго до смерти), что роман об «удивительных приключениях моряка из Йорка» на самом деле является автобиографическим и представляет собой иносказание о житейских и интеллектуальных злоключениях автора, демонстрирует скрытые возможности «большой формы» – многослойной и многозначной по своему содержанию. Собственно, смысл «большой формы» и заключается в масштабе ее обобщений и охвате общечеловеческих проблем.
Другой известный роман путешествий – «Приключения Лемюэля Гулливера» Дж. Свифта – также многослоен. В нем элементы фантастики сочетаются с политической сатирой, а бытописание – с социальным анализом современной Свифту Англии, а в ее лице – и всего просвещенного человечества. Третье знаменитое романическое путешествие – незаконченное (точнее – имитирующее незаконченность) «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна, состоящее не столько из перемещений героя, – позаимствовавшего свое имя у шекспировского персонажа (из «Гамлета») – Йорика, по географическому пространству Европы, – сколько по своим чувственным впечатлениям и душевным переживаниям. Путешествие Стерна стало авторитетным образцом для многочисленных подражаний.
Так, в русской литературе XVIII в. два произведения, претендовавшие на статус «большой формы», – «Письма русского путешественника» Николая Карамзина и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева – рождались в русле национально преломленных традиций Л. Стерна. В карамзинской версии путешествие русского аристократа в предреволюционную Европу служит патриотическому доказательству природных, ментальных и политических преимуществ России перед странами Западной Европы, что исключает зарождение в России революционных процессов и идей. Радищевская версия «сентиментального путешествия», обращенная в сторону России и национальной истории, преследовала цель – показать поверхностность русского Просвещения, скрывающего под личиной внешнего европеизма – средневековую темноту и вековую отсталость Российской империи. Сравнительный анализ европейской и российской истории вел Радищева к обоснованию усугубляющегося кризиса и неизбежной вспышки революционных протестов в переполненной противоречиями России. Противоположный результат сходных либеральных рефлексий свидетельствовал об амбивалентности российского исторического процесса на рубеже XVIII – XIX вв.