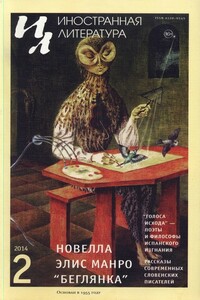Теория литературы. Проблемы и результаты | страница 35
Тодоров, не углубляясь далее в анализ этих определений, делает следующий шаг в своем критическом размышлении. Если литература, говорит он, так плохо сводится к одному определению, то это потому, что она, как и вообще язык, состоит из разных дискурсов, из разных жанров[53]. Художественные дискурсы связаны с разными внехудожественными дискурсами, у них есть «нелитературные „родственники“»[54]. Лирическое стихотворение и молитва имеют между собой больше общего, чем то же стихотворение и исторический роман; между стихотворением и романом нет специфического структурного сходства, а есть только функциональное. В этом смысле еще Юрий Тынянов определял поэтический жанр оды, соотнося его с традицией красноречия – прозаического, не собственно литературного («Ода как ораторский жанр», 1927). Границы дискурсов выходят за пределы литературы, вместо единого и замкнутого множества текстов получаются множественные дискурсы, охватывающие как литературные, так и нелитературные тексты; тем самым понятие литературы распадается. В результате критики ее структурные определения оказались рассогласованными, не соответствующими друг другу, не описывающими однозначно ее границ; поэтому приходится возвращаться к функциональному определению, формулируя его в самой общей и разочаровывающей форме: литература – это все, что называется, признается литературой. Ролан Барт еще раньше формулировал тот же вывод в более парадоксальной форме: «Литература – это то, что преподается, вот и все»[55].
Формула Барта – не пустой парадокс, а новое функциональное определение литературности, только не конкретно-лингвистическое, как у Якобсона, а абстрактно-эстетическое, когда литературная (художественная) функция текста сводится к подписи или имени. Сделать нечто художественным объектом – значит назвать, объявить его таковым: подобная практика распространена в современном искусстве (концептуализм, ready-made); сходным образом происходит уступка имени (бренда, франшизы) в современной моде и патентном праве; наконец, и некоторые тексты современной литературы отличаются намеренной, демонстративной нелитературностью, нарушают любые структурные определения литературы, однако функционируют в культуре наравне с литературными (скажем, поэзия уже упомянутого выше Дмитрия Пригова). Для «кооптации» текста в состав литературы может служить его (под) заголовок, художественное и техническое оформление (например, в виде книги), каналы его распространения, когда сам процесс обращения текста служит знаком его литературности. На филологическом факультете изучаются более литературные тексты, чем на юридическом: стало быть, стоит начать преподавать некоего автора филологам, чтобы его тексты сделались литературными. Надо признать, что такое определение литературы неудобно для ее профессиональных исследователей – оно равносильно признанию, что у них нет устойчивого предмета, определенного по своей сущности, а есть только зыбкое множество текстов, которые по каким-то случайным, разнородным основаниям признаются литературными.