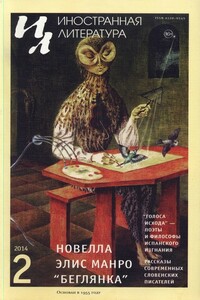Теория литературы. Проблемы и результаты | страница 27
Любому русскому читателю приходилось слышать высказывания типа «Евтушенко – это не поэзия», «ну разве Пригов – это поэзия?». В таких случаях говорящий не хочет сказать, что данные стихотворцы писали тексты, которые по каким-то внешним, четко опознаваемым признакам не подходят под понятие поэзии (литературы); имеется в виду, что у них отсутствует некое глубинное поэтическое начало; а раз так, то любая литературная продукция находится под угрозой дисквалификации, потому что за нею могут не признать этого неопределимого творческого элемента. Так нередко и происходит, причем дисквалификации подвергаются даже знаменитые классики – их время от времени предлагают «бросить с парохода современности»[38], исключить из числа образцов для подражания или даже для чтения. С другой стороны, сам термин «литература» в разных своих вариантах может выступать в качестве негативного, бранного. В русском языке есть слово «литературщина», то есть дурная, негативная литературность; а Поль Верлен начинает свое «Поэтическое искусство» словами «Прежде всего – музыка», а заканчивает словами «Все прочее – литература» (то есть сюжет, идеи, персонажи, риторические приемы и т. д.).
Итак, понятие «литература» исторически подвижно по содержанию и может дублироваться отрицательным двойником «литературщины». Принадлежность произведения к литературе (или хотя бы к «хорошей» литературе) постоянно оспаривается, это качество «быть литературным фактом» то приписывается отдельным текстам, то отнимается у них. Так обстоит дело в эмпирическом литературном процессе, и теоретическая рефлексия должна его осмыслить.
Проблема определения границ литературы не составляла трудности в XIX веке: спекулятивная эстетика, например эстетика Гегеля, давала дедуктивную дефиницию литературы «сверху», определяя ее как один из видов искусства, каковое само считалось одной из форм познания / осуществления мирового духа или закономерностей социально-исторического развития. Такой подход до сих пор влиятелен в России – большинство учебников теории литературы начинаются с главы о месте литературы среди других искусств. Однако в начале XX века был поставлен вопрос об индуктивном определении литературы, то есть не о том, чем она вся в целом отличается от прочих форм культурной деятельности, а о том, чем ее конкретный факт отличается от конкретных фактов не-литературы: «Тогда как твердое