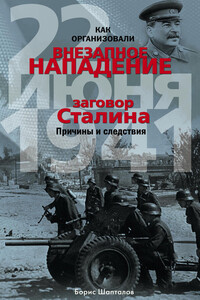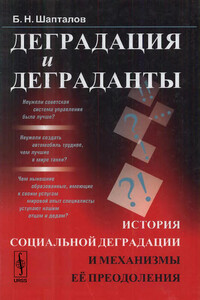Испытание войной | страница 72
Показателен, например, такой штрих. В ходе следствия по делу бывшего командующего 12-й армией П.Г. Понеделина, расстрелянного в 1950 г., один из пунктов обвинения состоял в том, что в плену он вел дневник, где "подвергал антисоветской критике политику советской власти в отношении коллективизации сельского хозяйства, восхвалял врагов народа и клеветал на боеспособность советских войск" (с. 152){22}. Его товарищ по плену и коллега по службе, бывший командарм 6-й армии И.Н. Музыченко показал, что "он лично видел дневник, в котором Понеделин, излагая причины неудач Советской Армии в 1941 г., клеветнически отзывался о колхозниках" (с. 154){22}. За этими эвфемизмами совпартовского новояза скрывается следующее.
П.Г. Понеделин одну из основных причин неустойчивости войск Красной Армии видел в нежелании крестьян воевать за колхозно-крепостнический строй. Сам Н.С. Хрущев признавал, что "среди военных были "нехорошие настроения". Отступаем, потому что солдат не чувствует, за что он должен воевать, за что он должен умирать... сейчас все общее, все колхозное. Поэтому, мол, нет стимула" (с. 87){23}.
Теперь, когда приоткрылись архивы, появляется все больше свидетельств отсутствия поголовного "морально-политического единства партии и народа". Позволю привести еще одно такое показание очевидца. Писатель Н. Богданов послал письмо на имя Сталина, в котором сообщал: "Я был на передовой позиции с августа 1941 г. не просто как военнослужащий, но как писатель, как психолог, как научный работник, изучающий происходящее. Я видел массу примеров героизма, но я видел и то, как целыми взводами, ротами переходили на сторону немцев, сдавались в плен с вооружением без всяких "внешних" на это причин. Раз не было внешних, значит, были внутренние" (с. 534){24}.
Нежелание воевать за сталинское государство порой было столь велико, что и тяжесть плена не возжигала любовь к социалистическому отечеству. Э. Манштейн привел в воспоминаниях поразивший его следующий эпизод. У Феодосии находился лагерь с 8 тыс. пленных. После высадки советского десанта в январе 1942 г. охрана сбежала. "Однако эти 8000 человек отнюдь не бросились в объятия своим "освободителям", а, наоборот, отправились маршем без охраны в направлении на Симферополь, то есть к нам" (с. 223){10}.
Верхи должны были на все это безобразие как-то реагировать. И они реагировали. 12 сентября за подписями И.В. Сталина и Б.М. Шапошникова вышел приказ о создании заградительных отрядов. В директиве констатировалось: "Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать: "Нас окружили" - и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизия обращается в бегство... Подобные явления имеют место на всех фронтах" (с. 180){13}. Предписывалось в каждой стрелковой дивизии создать заградотряд численностью до батальона, с приданием ему грузовиков, танков и бронемашин и "не останавливаться перед применением оружия"!