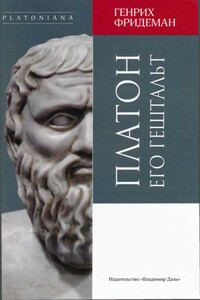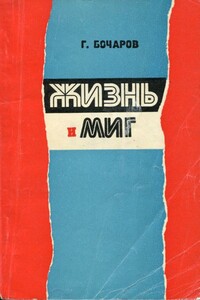Репин | страница 52
Она вся написана с натуры, очень старательно и любовно. Выдержанная в духе тех милых, шутливых жанровых вещиц, которые стали появляться на академических выставках с 50-х годов и были подписаны никому не известными именами Чернышева, Андрея Попова, Цветкова, Мясоедова и др., картина Репина ясно обнаруживает его симпатии и в известном смысле истоки его искусства.
Одновременно он пишет два заказных портрета, — военного врача Яницкого и его жены. Первый скучен и суховат, ибо писался, видимо, без всякого увлечения, но второй, изображающий блондинку в профиль, с распущенными волосами, в голубой кофточке, прямо превосходен по форме и цвету.
Ho академические занятия идут своим чередом, и он получает одну за другой все полагающиеся малые и большие медали. Внимательное рассмотрение этих многочисленных отметок и наград приводит к любопытным выводам>[122]. Оказывается слабее всего Репин в рисунке, конечно, с точки зрения академического профессора. Ни за один рисунок с натурщика в 1867 г. он не получил первого номера, а имел только два вторых, один третий, шестой, седьмой и восьмой. Значительно лучше обстояло дело с эскизами, за которые он имел два первых номера, один третий и два четвертых. Но совсем блестяще он шел по живописи, получив за все 4 этюда по первому номеру.
Таким образом, уже в 1867 г. Репин выделялся среди всех товарищей прежде всего в качестве живописца — черта, присущая его искусству и в дальнейшем.
Летом 1868 г. он пишет на премию большую картину «Диоген разбивает свою чашу, увидев мальчика, пьющего из ручья воду руками».
К конкурсу Репин не успел кончить картину, поэтому она премии не получила, но, поработав над ней после конкурса, он выставил ее на академической выставке 1868 г. Сам Репин признает, что картина ему «совсем не задалась» и он никак не мог выразить момента разбития чаши; все искал, менял и за два дня до экзамена всю ее переписал. Размер ее был 2½ арш. на 4. Как не удостоенная медали она вернулась к автору, которого своими размерами так стесняла, что он ее сжег>[123].
Насколько Репину запали слова Крамского о Бруни, видно из того, что он и эту картину — впрочем, еще в эскизе — носил ему показывать.
— У вас много жанру, — сказал Бруни недовольно, — это совсем живые, обыкновенные кусты, что на Петровском растут. Камни тоже — это все лишнее и мешает фигурам. Для картинки жанра это недурно, но для исторической сцены это никуда не годится. Вы сходите в Эрмитаж, выберите там какой-нибудь пейзаж Н. Пуссена и скопируйте себе из него часть, подходящую к вашей картине. В исторической картине и пейзаж должен быть историческим.