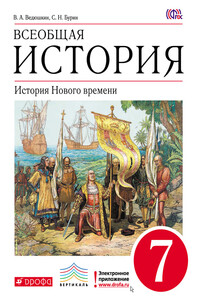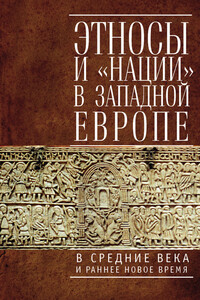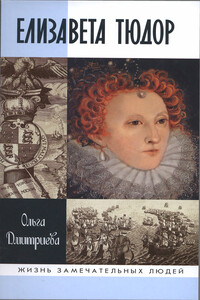Европейское дворянство XVI–XVII вв.: границы сословия | страница 24
Впечатления настоящего вполне подтверждаются более ранними свидетельствами, которые единодушно отмечают родовую гордость шотландцев, еще более разительную на фоне другой известной национальной черты бедности. Посол Испании (дворянство которой само может служить образцом сословной надменности) дон Педро де Айала, состоявший при шотландском дворе в 1496–1497 гг., писал о своем новом окружении: «Они тщеславны и высокомерны по природе и тратят все, что у них есть, дабы поддержать свое внешнее обличье… Они почитают себя самым могущественным королевством из сущих на земле»[56]. Айала вращался среди высшей придворной знати, но и менее именитые не уступали ей в сознании своего положения и стремились не уронить его. Англичанин Тэйлор так отозвался о визите к некоему шотландскому дворянину в 1618 г.: «Этот простой домотканый детина (plaine homespunne fellow) содержит 30, 40, 50 или, быть может, больше слуг, каждый день принимая у ворот по 60 или 80 человек, и, помимо всего этого, может давать пышный прием по четыре или пять дней кряду пяти или шести графам и лордам вместе с рыцарями, джентльменами и их свитой, будь их хоть три или четыре сотни на лошадях. Тут они не только едят, но угощаются, не только угощаются, но пируют… Много таких достойных хозяев в Шотландии, и я был принят среди иных, откуда подлинно собрал помянутые наблюдения»[57].
Глубокое ощущение родовой принадлежности постоянно проявлялось в различных формах и было почти всеобщим. По утверждению епископа Джона Лесли, издавшего в 1578 г. «Историю Шотландии», это чувство разделялось «всем народом, а не одним лишь дворянством»