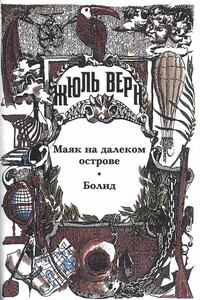И плач, и слёзы... | страница 5
Бабтя. Чего хотели, паночки?
Жук. Паночки, мать, были при панской Польше! А мы представители Советской власти!
Он вышел из гумна, осмотрел мешки с картошкой, потом направился к маме.
Вот что, Мария! Завтра надо все сдать в колхоз: лошадь, зерно, картошку! И чтоб без всяких разговоров! Вы уже не частники, как при панах, а колхозники!
Мать. Какие мы колхозники, паночек? Мы этого слова не знаем! Слышать николи не слышали!
Васька. Что-о-о? Что ты сказала представителю власти?
Он старался говорить по-русски — этого хотело начальство, приучая народ к новой, советской жизни.
Мать. Какие мы колхозники, Васька? Мы еще несознательные!
Васька. Советская власть на то и Советская власть, чтоб из несознательных сделать сознательных!
Жук. Кому сказать? Великая Россия двадцать лет назад сдалась, а тут второй год бьемся и не можем организовать колхоз! Мы что — ради себя стараемся? По ночам не спим, жен и детей своих не видим, чтобы вас из этого дерьма вытащить!
Бабтя. А вы не старайтесь! Лучше с женами по ночам спите да за детьми смотрите!
Васька вновь сорвался, вскинул винтовку и бросился к бабте.
Не пугай — пужаные!
Жук (подошел ко мне). Вот ребенок и то понимает! Скажи, Михаил Николаевич, хочешь жить при коммунизме?
Я посмотрел на бабтю. Жук присел на корточки, потом поднял меня на руки.
А светлое будущее хочешь видеть?
Я опять посмотрел на бабтю.
Хочешь или нет?
Я (шепотом). Хочу!
Жук. Вот! Дети и то понимают, что иного пути нет! А вам вдолбить не можем, что Советская власть — это рай!
Бабтя (вскинула руки к небу, запричитала). Господи! Спаси и помилуй!
Вечером меня ждал страшный суд. Я лежал на лаве со спущенными штанами, мать держала меня, обливаясь слезами, а бабтя лупила вожжами.
Светлого будущего захотел, сукин сын? Я тебе покажу коммунизм! Я тебе покажу светлое будущее!
Это самое сильное впечатление моего детства, и я часто думаю, каким будет оно у моего внука Мишки, которому скоро исполнится шесть лет, и уже нет Советской власти, и никто не интересуется "светлым будущим". А тогда, пятьдесят лет назад, наше гумно превратилось в огромный склад крестьянского инвентаря, который днем заполнялся телегами, плугами, лошадьми, а ночью все это люди забирали обратно. Так продолжалось весь 1949 год. В конце концов народ дрогнул. Людей силой заставили поставить свои подписи. Наш колхоз назвали "Заря коммунизма", потом, к очередному юбилею Советской власти, переименовали в "Октябрь". Все это долго не давало мне покоя, я не знал, где и как это применить. В театре, где я ставил свои первые спектакли, невозможно — не было таких пьес, а тема была властями закрыта. Аукнулось через много лет, когда я снимал "Знак беды" Василя Быкова. Я прочитал повесть в рукописи и не спал всю ночь. На меня нахлынули воспоминания. Мне ничего не надо было придумывать — я все помнил, слышал все диалоги, помнил состояние людей, их разговоры, ночные сходки, на которых они договаривались стоять вместе, не сдаваться. Помню, как плакала моя бабтя, отдавая единственного коня в колхоз, как этот конь по ночам приходил к нашему сараю и тихо ржал — просился, чтобы впустили на его место. Бабтя с матерью сидели у окна и плакали, глядя на него. Все это не придумаешь, это надо было видеть и пережить. Сценарий моего детства уже давно лежит на столе. Но я не знаю, смогу ли осуществить свою мечту. Я снял много фильмов, получил много наград в Европе, но о том, что лежит на столе, никто не знает, потому что это рассказ от имени ребенка, о том, как эта жизнь отразилась на его душе и что из этой души Советская власть сделала. Может, единственный фильм, в котором я прикоснулся к струнам своей души,— это "Знак беды". Это был 1985 год, началась перестройка, у власти оказался Михаил Горбачев, и Быков как истинный художник, интуитивно предчувствуя перемены в стране, обратился к своим истокам — общим для всего нашего народа.