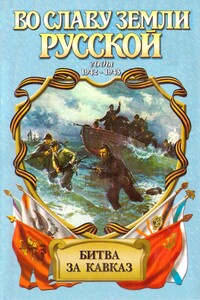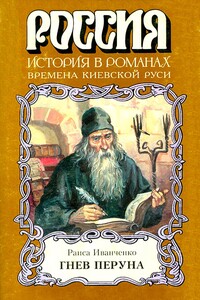Тогда в Октябре... в Москве | страница 5
Тот, который не умер, поднялся лесенкой в турбинную, — там была тишина, порядок, холодок и мрак, там были строгие машины, четкие, как формула, — за огромными стеклами окон мигали звезды, здесь никого не было. Тот, который не умер, через контору вышел во двор; звезды мигали ближе, многими бочками грузился мрак, и было пусто и холодно, — во всем мире, как в нем самом, — и ни души человеческой не было кругом на дворе. Тогда другой лестницей, по заугленным ступенькам, он вернулся в котельную. Рабочий-старик подал ему кусок хлеба, две картошки и воблину: «Поешь, товарищ!» Он стал есть, и хлеб после рук рабочего пропахнул машинами и порохом. Здесь, после порядка турбинной и безлюдья небес, — в лоскутьях света, в тепле, рваном, как мастеровская куртка, в горах угля, в подземелье, где строго торчали топки печей и глотки котлов, после тепла хлеба и картошки, он заснул, просто, как всегда люди. Он не помнил, долго ли он спал, — он проснулся около котла, на угле, первыми он увидел глотки печей и винтовку под своей головой, — он проснулся потому, что около него спорили, пришли еще новые, с постов, на смену.
Люди умеют видеть только своими глазами, — все, что ниже и выше этого человека, в понятиях невещественных, ему не видно, непонятно, — трудно найти «плоскость», откуда видно: рабочие спорили — о пустяках: о том, кому идти в очередь по наряду, кто — какой Митрий — спит с вечера в котле, кто где был и правильно провел день, кто много растратил без толку патронов; новые лезли в котлы, новые ели хлеб и картошку; о прибавочной ценности, о заводских комитетах, о справедливости и несправедливости дирекции и начальства — не спорили, — у угольного люка сидел часовой, и он пел, как Маруся отравилась, в больницу повезли; из котла за ноги вытащили Митрия, спавшего всю ночь, погнали его в наряд. Тогда тот, который остался жив, забродил. Он поднялся в машинное, маховик пародинамо был неподвижен, человек перелез за решетку и стал взбираться по спицам наверх, руки скользили по масляной стали, приводной ремень был срезан, должно быть, на подметки; когда человек залез кверху, под его тяжестью маховик двинулся вниз, засопел, — но это не значило, что машина двинулась работать, — человек ударился затылком о кафели пола, ушел за маховиком под пол, — оттуда он вылез проворно и ловко, как обезьяна. Тогда он закричал истошно:
— Рабочие, товарищи! Она пошла, машина! Я ее пустил! Это все!..
В углу за амперметрами во мраке стояла, как в сказке о Красной Шапочке, женщина с лицом волка, она скалила зубы, но глаза ее, в лишаях и гное, были закрыты. Она стояла, сложив руки на огромном животе, и ноги ее врастали в кучу сора в углу и в окно. Тогда он крикнул еще страшнее: