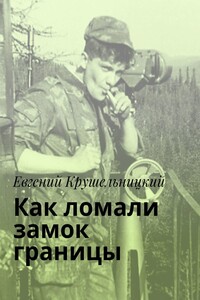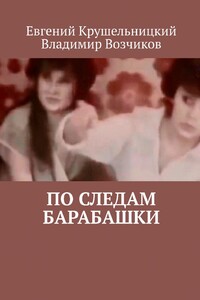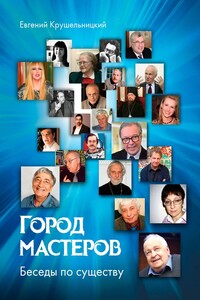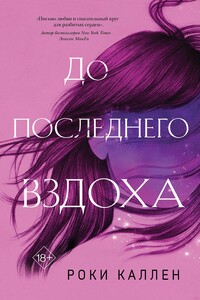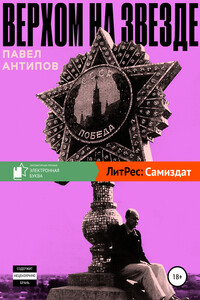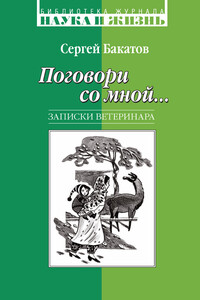Философские уроки счастья | страница 64
Августин написал свыше сорока толстых томов и долго удивлял потомков широтой интересов. Более всего его интересует человек, душа, психология ошибок и заблуждений, способы божественного откровения. Он исследует виды познания и памяти. Пишет о сновидениях. Пытается постичь секрет ясновидения. Но нет конца вопросам: «Великая бездна сам человек… волосы его легче счесть, чем его чувства и движения сердца», — поражается философ.
Летом 430 года вандалы, которые уже перебрались через Гибралтар, достигли Гиппона. Епископ скончался в осажденном городе. Останки Августина не раз перевозили с места на место, и в позапрошлом веке похоронили в Алжире, подле воздвигнутого ему памятника на развалинах древнего города.
Проповеди Аврелия предназначались для римских беженцев, но их услышали и потомки. Речистый фанатик увлек за собой многие поколения. Его идеи оказались созвучны средневековому сознанию и потому жили ещё долго. Тысячу лет спустя флорентиец Петрарка будет беседовать с ним в своих философских трактатах. И не сдержит восхищения: «С Августином, конечно, сравниться не может, по-моему, ни один человек; ведь если в его изобильный и талантливый век ему не было равных, кто сравнится с ним теперь? Слишком велик был во всех отношениях этот человек, слишком неподражаем».
Им владело мрачное чувство всеобщей виновности перед Богом. Только божья благодать дает возможность потомкам Адама идти путем добродетели. Все, лишенные благодати, то есть некрещеные, без вариантов попадут в ад, даже младенцы. Судьба же остальных зависит не от личных добродетелей, а от того, как решит Бог. В любом случае он прав: проклятие доказывает его справедливость, а спасение — его милосердие. Моральная свобода для философа заключается в следовании добру, смысл которого разъясняют божественные заповеди.
Августин обращается не к силе разума, как древние, а к вере. Он обосновал первенство веры над разумом, а церковь провозгласил единственным и непогрешимым источником всякой истины. Главную опасность для верующего философ видел в эгоизме, в стремлении жить не «по Богу», а по собственному разумению.
В чем, однако, была причина, что я ненавидел греческий, которым меня пичкали с раннего детства? Это и теперь мне не вполне понятно. Латынь я очень любил, только не то, чему учат в начальных школах, а уроки так называемых грамматиков. Первоначальное обучение чтению, письму и счету казалось мне таким же тягостным и мучительным, как весь греческий. Откуда это, как не от греха и житейской суетности, ибо «я был плотью и дыханием, скитающимся и не возвращающимся». Это первоначальное обучение, давшее мне в конце концов возможность и читать написанное и самому писать, что вздумается, было, конечно, лучше и надежнее тех уроков, на которых меня заставляли заучивать блуждания какого-то Эния, забывая о своих собственных; плакать над умершей Дидоной, покончившей с собой от любви, — и это в то время, когда я не проливал, несчастный, слез над собою самим, умирая среди этих занятий для Тебя, Господи, Жизнь моя.