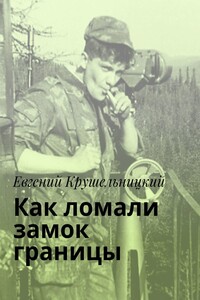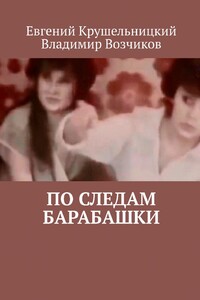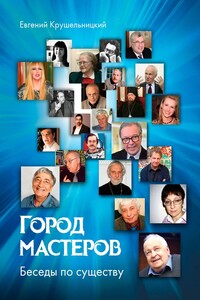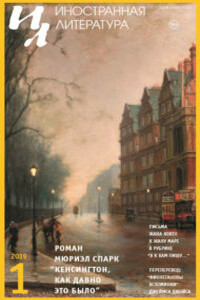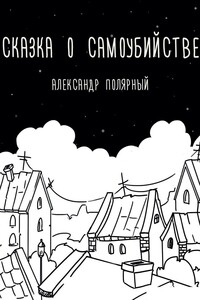Философские уроки счастья | страница 59
Сенека, «Нравственные письма к Луцилию»
Аврелий Августин
(354 — 430)
Прежние философы видели в природе материальные начала: Фалес — в воде, Анаксимен — в воздухе, стоики — в огне, эпикурейцы — в атомах. Платон воспарил над землей в мир идей. Аврелий Августин пошел еще дальше, увидев начало всего сущего в Боге, и в центр своей философии поставил отношения вечного небесного отца с людьми. Отношения эти непросты и строятся на эмоциях — любви, ненависти, надежде, прощении… люди заведомо виноваты перед Богом, потому что их прародители когда-то нарушили его запрет и отведали плодов с древа познания добра и зла.
Любовь к мудрости Августин связал с любовью к Богу и поэтому полагал, что счастья можно достичь только в постижении этой высшей силы мироздания. Углубляясь в себя, человек находит некие вечные истины, источник которых — опять-таки Он.
История по Августину — это не круговорот, как было у древних («что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем», — писал библейский Екклесиаст). Не топтание на месте, а прогресс, вершина которого — страшный суд, где грешники будут отделены от праведников.
Так Августин заложил основы религиозной философии, после чего «царица наук» надолго пришла в упадок. Почему же он, так стремившийся к счастью, нашёл его не в жизни, а в надежде на посмертное блаженство?
Извилистый путь к благочестию
Его отец был язычником, а мать — христианкой. Пока христианство шло к признанию его государственной религией, Августин, вдохновляемый матерью, продолжал свои духовные искания. Но прежде нужно было получить образование. В античные времена образованный молодой человек — это прежде всего оратор. И юноша поехал в Карфаген изучать латинских классиков, учиться красиво говорить. Он ехал туда, пройдя школьный курс наук. Но не о науках вспоминал он потом…
В школе, где процветали телесные наказания, подростку пришлось нелегко. Не встречая у взрослых сочувствия, Аврелий молил Бога, чтобы тот спас его от бесконечных побоев, часто несправедливых. Дома мальчик рос в атмосфере любви и нежности, был одарён, чувствителен и потому остро воспринимал страдания. А измученному телу так хотелось удовольствий… В шестнадцать Аврелия стали обуревать, по его словам, пагубные страсти: «Я искал, что бы мне полюбить… Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться». Счастье и блаженство казались пределом желаний. Утехи чувственной любви наполняли его жизнь, поначалу далеко не благочестивую. Много лет он жил с любовницей, родился сын. Потом стал подумывать о женитьбе, но не на матери своего сына, а на другой, помоложе. Его юной возлюбленной было всего десять лет, и тогдашние законы требовали отложить брак на два года, до совершеннолетия невесты. Прежняя подруга уехала, оставив ему сына и дав обет никогда больше не выходить замуж. Свадьба откладывалась, а он тут же завел себе временную замену возлюбленной. Правда, голос совести несколько омрачал жизнь, и Аврелий молился: «Даруй мне, Господи, чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши». Когда подошел срок женитьбы, его молитва была наконец услышана, и он остался холостяком.