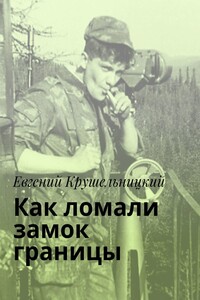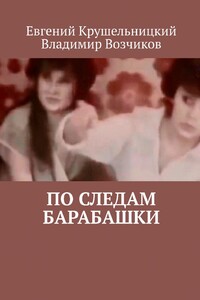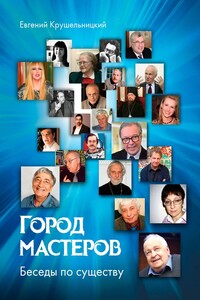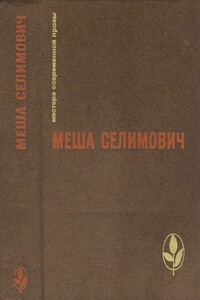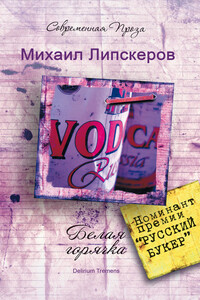Философские уроки счастья | страница 47
Пересмотрел и отношение к смерти: пока мы есть — смерти нет, а когда она наступит — нет уже нас. Если усвоить эту истину, то исчезает величайшее из зол. Жить надо сегодняшним днем, здесь и сейчас.
Теоретически это звучит неплохо, но холодный душ практики поджидает любого мечтателя. Однако Эпикур не был мечтателем, и судьба давала ему суровые уроки. Отец его работал в школе учителем словесности и с трудом мог прокормить четверых сыновей. Мать ходила по лачугам, за деньги читала очистительные заклинания. Мальчик в меру сил помогал родителям, но подводило здоровье: с детства и до последних дней его мучила тяжелая болезнь, и он учился жить в паузах между приступами.
С четырнадцати лет увлекся философией, много читал, но основательного философского образования не получил. Что, впрочем, не мешало ему пренебрегать всякими мнениями и авторитетами, и недоброжелатели звали его недоучкой. В отличие от мыслителей вроде Платона, не знавших забот о хлебе насущном, что позволяло воспарять над житейской суетой и философствовать, Эпикур выкраивал на это время, оставшееся от повседневных забот.
Многие годы он зарабатывал себе на хлеб учительским трудом, а труд этот никогда не приносил больших доходов. Эпикур бедствовал и мечтал о своей философской школе, где учил бы сограждан достойно жить в самых неподходящих условиях. В тридцать четыре года он свою мечту осуществил: купил в Афинах сад и основал там одну из самых знаменитых школ древнего мира — Сад Эпикура. К тому времени он уже знал, как быть счастливым.
«Ликую от радости телесной»
Входящего в сад встречали слова, начертанные на воротах: «Гость, тебе будет здесь хорошо; здесь удовольствие — высшее благо». Гостей ждала свежая вода и блюдо ячменной крупы. Это была не публичная школа, а товарищество единомышленников, тесный союз, община. От учеников не требовалось никакой подготовки, кроме обыкновенной грамотности. Сюда приходили не только ученики, но и друзья, их дети, гетеры, рабы. Несмотря на многообещающий лозунг насчет удовольствий, здешняя жизнь была проста и скромна. Да и вряд ли она могла быть другой, если зависела от пожертвований. «Пришли мне горшечного сыра, чтобы мне можно было пороскошествовать, когда захочу», — писал Эпикур другу.
В склонности к удовольствиям, кстати сказать, не было ничего нового. Философ Аристипп, умерший примерно за полтора десятилетия до рождения Эпикура, тоже знал в них толк и искусство жить понимал как умение ловить минуты наслаждения, дорожа настоящим и не заботясь о будущем. Когда наслаждений не было, но не было и неприятностей, то такое состояние Аристипп называл безразличным. Не таков Эпикур, которого болезнь заставляла ценить недолгие передышки. Для него отсутствие страданий — уже удовольствие. Однако погоня за мимолетным наслаждением нарушает покой души, что нехорошо, полагает Эпикур. Кроме того, такие наслаждения временны и преходящи. Значит, нужно сосредоточиться на более или менее устойчивых удовольствиях — то есть жить согласно природе, отказаться от суеты. И пересмотреть потребности, решив, без каких можно обойтись, а без каких — нельзя. Голос природы требует всего лишь пищи, воды и тепла. Слушайся этого голоса — никогда не будешь беден, погонишься за призрачным — никогда не будешь богат. Неестественные потребности дороги и опасны для душевного спокойствия, они ненасытны, от них все несчастья. А счастье требует здоровья и спокойствия души. Поэтому нужно довольствоваться необходимым, и в первую очередь заботиться о желудке, потому что «начало и корень всякого блага — удовольствие чрева. Даже мудрость и прочая культура имеет отношение к нему». Без всего остального можно обойтись, если только цена жертв, измеренная в количестве страданий, не слишком велика. Приятнее всех наслаждается роскошью тот, кто меньше в ней нуждается.