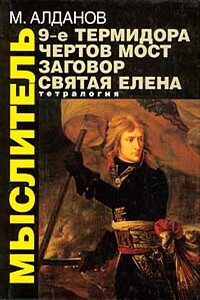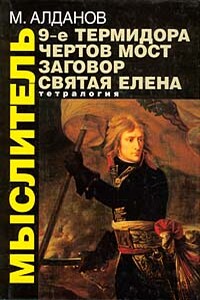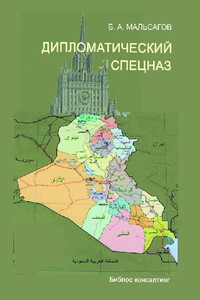«Права человека и империи»: В. А. Маклаков - М. А. Алданов переписка 1929-1957 гг. | страница 22
Алданов, впрочем, также был настроен не слишком оптимистично:
«Я моложе Вас, но ей-Богу иногда радуюсь, что тоже уже очень немолод и не увижу следующих глав трагикомедии, — писал он Маклакову всего лишь несколько месяцев спустя после окончания Второй мировой войны. — Т. е., увидеть их, пожалуй, и было бы интересно — вот как интересно читать Гиббона. Но переживать их — нет, с меня достаточно. Не думаю, чтобы еще было какое-либо поколение с сотворения мира, которое видело бы и пережило бы столько сколько мы. Читаю старых второстепенных романистов, живших в ту эпоху, которую я пытаюсь описать в романе "Истоки". Право, смешно и стыдно. Это Хвощинская написала: "Бывали времена хуже, но подлее не было" (Некрасов взял у нее). А жили они в лучшее (не говорю: в очень хорошее, но в лучшее) время и русской и мировой истории. А вот наше время — действительно, пока не было ни хуже, ни подлее»{49}.
Обстановка на «второй родине», во Франции, казалась полностью аналогичной ситуации на родине первой в 1917 г. Коммунисты в правительстве, шаткость власти… Все это наводило на мрачные размышления.
Отставку генерала де Голля в начале 1946 г. Алданов воспринял как большое горе. «В случае чего, за ним пошли бы, — писал он Маклакову. — Пойдут ли за его преемником — это вопрос. Вообще все идет к черту. Очень горжусь, что в 1937 году начал печатать, а в 1939 году выпустил книгу под названием "Начало Конца". И еще больше огорчаюсь, что оказался прав. В "Истоках" же меня только и интересует: откуда пошло все то, что теперь происходит в мире? Ведь и народовольцы, и Бисмарк, и Вагнер, и Гладстон, и Маркс, и Бакунин были именно истоками — от них пошло и хорошее…»{50}
Более всего корреспонденты опасались войны между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции: «Не дай Господи! Как физико-химик, я понимаю, что такое атомная бомба»{51}. Опасность представлялась им вполне реальной, по крайней мере до смерти Сталина. Проблема выбора, определения собственной позиции в случае конфликта вновь, как и десять лет назад, была «на повестке дня». Только на этот раз она была гораздо более мучительной. Ведь, по большому счету, у либерально-демократического крыла русской эмиграции не было особенных сомнений, кого поддерживать — Сталина или Гитлера. Труднее было определиться в случае возможного столкновения между СССР и США.
«Конечно, молчать во время войны — это не "позиция", — размышлял Алданов в конце 1940-х гг., в период "пика" холодной войны. — Но беда ведь именно в том, что в случае войны между СССР и демократиями у нас не может быть никакой приемлемой позиции. В здравом уме мы не можем желать победы Сталину по тысяче причин, одна из которых заключалась бы просто в том, что такая победа означала бы гибель всех близких нам людей на европейском континенте, всех тех, кому не удастся бежать и кто немедленно не перекрасится (ведь весь континент будет захвачен в 3–4 недели). Мы не можем, с другой стороны, приходить в восторг от того, что атомными бомбами будут уничтожаться Петербург, Москва, Киев, все культурные сокровища России и миллионы людей, что затем, в случае победы Америки, Россия (или то, что от России останется) будет сведена к границам 17-го столетия. Поэтому, думаю, пока войны нет, мы должны всячески желать, чтобы ее и не было. А если она начнется, я не вижу ничего другого, кроме молчания, как ни плох этот "выход"»