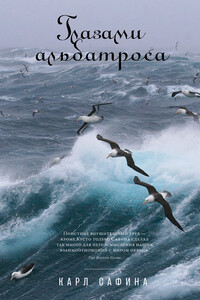За гранью слов. О чем думают и что чувствуют животные | страница 12
– Надо знать каждого, каж-до-го, – говорит Катито Сайялел. Ее напевный выговор чист и ясен, как это африканское утро. Она высокая, как все масаи, и очень толковая. С Синтией Мосс Катито работает уже двадцать лет, помогает ей в наблюдениях за слонами.
– Каждого? А сколько всего?
Катито морщит лоб:
– Ну, я могу опознать всех взрослых особей, значит, где-то девятьсот слонов. Или тысячу.
На глаз распознавать сотни и сотни животных? Каким образом? Как она это делает? У некоторых могут быть какие-то отличительные признаки, например рваное ухо, но она знает их всех, словно они старые знакомые.
Если объектом изучения становится социальное взаимодействие, в котором животные активно участвуют, наблюдатель не имеет права сказать: «Одну минуточку, а кто там у нас бегал?» Требуется помнить каждого в отдельности, даже если их сотни, потому что сами слоны прекрасно запоминают сотни своих сородичей. В природе они существуют в контексте сложнейших социальных сетей, в которых переплелись семьи, дружба и прочие отношения. Памяти слонов можно позавидовать. Катито они действительно узнают.
– Когда я впервые здесь появилась, – вспоминает она, – они услышали мой голос и поняли, что я новенькая. Подошли поближе, обнюхали. В общем, познакомились.
С нами еще Вики Фишлок. До того как приехать сюда, эта тридцатилетняя голубоглазая англичанка уже успела поизучать горилл и слонов в Республике Конго и получить докторскую степень. С Синтией она работает больше двух лет и, судя по всему, намерена оставаться тут и дальше.
Как правило, Катито отмечает слонов по списку и отправляется дальше, а Вики садится наблюдать за их поведением. Но сегодня они проводят для меня что-то типа обзорной экскурсии, чтобы помочь сориентироваться.
Вот, минуя заросли высокой слоновой травы, пять взрослых самок и четыре слоненка выбирают себе местечко, где трава пониже и растет не так густо. Они не зря тратят силы на поиски, потому что ищут то, что вкуснее. Чтобы понять это, им не требуются трактаты о пищевой ценности травяных культур. Делая выбор в пользу более питательной пищи, они до известной степени руководствуются подсознанием, которое подсказывает, что делать. С нами происходит то же самое, ведь жирное и сладкое – это прежде всего вкусно (нашим далеким предкам не нужно было себя в этом ограничивать).
За пасущимися слонами тянется череда белых цапель, а воздух над ними прочерчен орбитами стремительно кружащихся ласточек. Птицы знают: когда слоны, эти могучие серые корабли, рассекают травяные волны, вокруг них, словно брызги, вздымаются тучи насекомых. Блики света играют на покатых спинах, как солнце на океанических валах. Слышно, как они вырывают из земли траву и жуют ее. Как хлопают уши. Как шмякается оземь навоз. Как жужжат мухи, как со свистом рассекают воздух хлещущие наотмашь хвосты. Как тихим звуком тамтамов отдается их поступь. И это безмолвие исполинов, проступающее во всех их повадках, – без единого слова повествуют они о поре, когда человек не сделал еще ни единого вдоха. Они шествуют своей дорогой, полностью игнорируя нас.