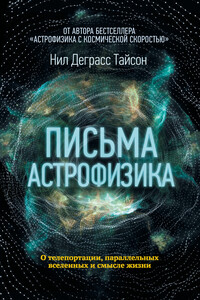Мозг: прошлое и будущее | страница 40
Нервная система, впрочем, не галактика и свою сложность выказывает лишь тогда, когда перетасуешь линзы телескопа и вглядишься в нее в микроскоп. Одним из первых исследователей микроскопической структуры мозга стал чешский анатом Ян Пуркине (Иоганн Пуркинье в принятой тогда немецкой транскрипции), который в 1838 году сообщил о своем открытии нейронов мозжечка, которые теперь носят его имя. На собственноручных зарисовках ученого клетки Пуркинье похожи на крошечные переспелые луковки – из каждой торчат одна-две стрелки, которые загадочно и многозначительно уходят в никуда[126]. Поскольку оптические приборы того времени были довольно грубыми, Пуркинье смог разглядеть лишь эти клетки – одни из самых крупных в мозге. Луковицеобразные формы, которые он рассматривал, были телом («сомой») нейрона, самой толстой частью клетки, около сотой миллиметра в поперечнике.
Лишь в конце XIX века, когда появились усовершенствованные системы линз и методы подкрашивания препаратов, ученые разглядели, куда уходят луковые стрелки, и ответ всех потряс. Из каждой клетки Пуркинье исходят целые заросли из тысяч ветвящихся волокон – так называемых дендритов, каждый из которых совсем тоненький, но суммарный их объем превосходит объем сомы клетки во много сотен раз. А кроме того, у каждого нейрона Пуркинье есть один длинный корень – аксон, уходящий в мозговую ткань больше чем на 2 см. Подобная изысканная архитектура типична для всей нервной системы, и самое известное свидетельство этого – подробные рисунки нейроанатомов Сантьяго Рамон-и-Кахаля и Камилло Гольджи