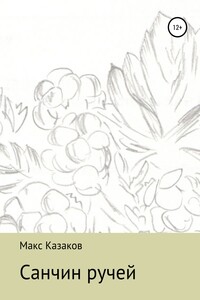Современное искусство | страница 82
Что за жизнь прожил Марк Дадли, если он не верит, что бывают и не гнусные тайны? Ей хочется рассказать ему про свою жизнь после смерти Клея Мэддена, про всех мужчин, которые рвались переспать с ней из-за него. И она выскочила за первого же парня, который был ей не отвратен в постели, за первого же, который, когда она плакала, не пытался растормошить, рассмешить ее.
— Расскажи мне про тот вечер в машине, — говорит Марк Дадли. — Ну же. Я должен это знать.
Он нажимает, наседает на нее, но она глядит на его член — он серпиком валяется на простыне, и, похоже, ему нипочем не встать. Да и его яйца, розовые, беззащитные, такие милые и безобидные — не то что его голос, — и она не может удержаться от смеха. И вот она уже обессиливает от смеха и думает про немку, которая взяла трубку, когда она позвонила Стюарту Холлису, про кацавейку Беллы Прокофф, про свой неутолимый голод, думает, как все-все это нелепо. По щекам ее текут слезы, она хохочет, задыхается и не может остановиться, даже когда он орет, поносит ее, не может остановиться, даже, когда он вскакивает и начинает одеваться.
Остановиться нельзя, иначе она того и гляди не удержится и расскажет ему про тот вечер. В обмен на еще одну выпивку, на еще один поцелуй, на еще одну ночь она может дать слабину. Но, по-видимому, опасность миновала. Он мотается по комнате, хватает носки, туфли, бумажник. Он вот-вот уйдет, и тогда можно будет остановиться.
В тот вечер Клей Мэдден сказал всего-навсего: «На х..» — и повторял это снова, снова и снова. «На х… на х… их всех, с меня довольно», — вот что он сказал напоследок, вот что выкрикивал в бешенстве, вот что она утаила от следствия. Слова эти, так ей казалось, могут умалить величие его смерти. Она слышит, как Марк Дадли, уходя, хлопает дверью, и пугается, но тут же спохватывается: победа за ней. Раз уж ей судьба быть шлюхой, шлюхой преуспевающей она стать не хочет и не станет.
Лиззи не верится, что Пол наконец-то здесь, в Беллиной гостиной, что это она их свела. За последние полчаса она извелась: и гордилась, и пугалась, стоило им открыть рот. Слишком они оба резкие, слишком вспыльчивые, слишком прямые, слишком нравные — как бы они не схватились. Рядом с такими яркими натурами она кажется себе блеклой, зато она более пластична и оттого менее уязвима.
— Потом у меня появилась аспирантка, которая не видела ни одной картины Сезанна, — рассказывает Пол. — А когда я объяснил, что ей не следует заниматься живописью, раз она не знает Сезанна, она обвинила меня в сексуальном домогательстве. Представляете? Представляете себе, чтобы Сезанн получал эту говенную степень магистра искусств? Мир сошел с ума.