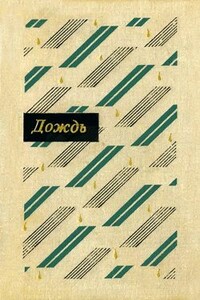Дневник семинариста | страница 36
- Переводи! - говорит он ученику, который стоит перед ним с потупленною головою и с Лактанцием в руках. - Переводи! что ж ты молчишь, как стена?.. - И впивается в него своими серыми сверкающими глазами.
- Душа, буду… будучи обуреваема страстями и… и…
- Далее?
- Страстями… и…
- Что ж далее?
- И не находя опо… опоры. - Ученик чуть не плачет.
- Осел! у тебя и голос-то ослиный! - И он передразнивает ученика: - Обуреваема… Где ты нашел там обуреваема? Лень тебя, осла, обуревает, вот что! Почему ты целую неделю не ходил в класс?
- Болен был.
- Видишь, какой у него басище… болен был… - Опять передразниванье. - Отчего ж ты не явился в больницу?
- Я полагал… я думал, что на квартире мне будет покойнее… - У малого навертываются слезы. - Ей-богу, я был болен лихорадкою. Спросите у моих товарищей и, если я солгал, накажите меня, как угодно.
- А! ты покой любишь… хорошо! Вот тебя исключат к вакации, тогда ты насладишься покоем: целый век будешь перезванивать в колокола.
И вслед за этим предлагается вопрос наставнику:
- Он у вас всегда таков или, может быть, на него периодически находит одурение?
- Что делать! Особенных способностей он не имеет, но трудится усердно и успевает, сколько может. Кажется, он сробел немного…
- Все это прекрасно, то есть вы очень великодушны, но все это ни к чему не ведет. Мне кажется (по крайней мере я так думаю, вы меня, пожалуйста, извините: может быть, я ошибаюсь), мне кажется, было бы сообразнее с делом видеть его в начале не второго разряда, как он у вас стоит, а в конце третьего. Впрочем, вероятно, вы имеете на это свое основание.
Наставник проглотил позолоченную пилюлю и стал извиняться, что он ошибся, и уверять, что на будущее время он постарается быть более осмотрительным.
После класса я заходил за книгою к своему товарищу, который живет в семинарии на казенном содержании. Мне случилось быть в первый раз в нумере бурсаков. Это огромная, высокая комната, по наружности похожая на наши классы, с тою разницею, что она, хоть и экономно, но все же ежедневно отапливается. Вокруг обтертых спинами стен стоят деревянные, топорной работы, кровати. Простынь на них нет; подушки засалены; Старые, сплюснутые матрацы прикрыты изношенными, разодранными одеялами. На полу пыль и сор. И какой пол! Доски стерты каблуками, и только крепкие суки упорно противятся сапогам и времени и подымаются со всех сторон бугорками. Между досок щели. В углу - отверстие: смелые голодные крысы не побоялись прогрызть казенное добро!.. Окна запушены снегом, и так плотно, что самому зоркому глазу невозможно видеть, что делается на улице и даже есть ли здесь улица. Сквозь разбитые и кое-как смазанные стекла порядочно подувает холодом, но я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался: кажется, здесь ко всему привыкли. Покамест мой товарищ доканчивал выписку из моей книги, я присел на его кровать. Ничего! матрац не жестче доски, стало быть, на нем еще можно спать. Ученики сновали взад и вперед по комнате. Один полураздетый, в толстом и грязном белье, лежал на своей кровати с глазами, устремленными на тетрадку, и с видимым удовольствием доедал кусок черного хлеба. Другому захотелось покурить. Курить не велят, поневоле поднимешься на хитрости. Он подставил к печке скамью, открыл вверху заслонку и, стоя на скамье, пускал дым в трубу. Вдруг я почувствовал что-то неприятное у себя на шее, хвать - клоп! Этакая мерзость! Воображаю, как было бы покойно провести здесь ночь…