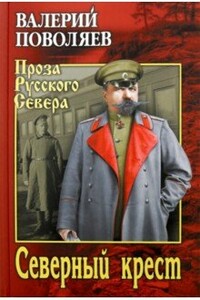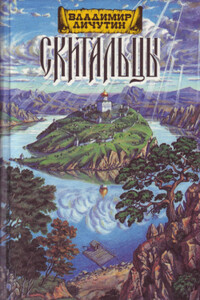Миледи Ротман | страница 79
А над головою-то синь разливанная. Братцы, бывают на северах после вешницы такие благодарственные дни, когда и в дом с воли неохота, и постели поклониться на ночь — будто нечаянной радости себя лишить. Воздух-то, кажется, звенит; нет, воистину тонко так погуживает на небесных свирелях, весь такой сладимый, родимый, отчий, пронизанный дымами от ближних кострищ на поскотине, где рыбаки смолят лодки к промыслу, нашивают свежие набои, ладят скамьи и выкатывают из воды первые дровишки, пойманные по большой воде. Еще и льды на бережине разлеглись, как грязные желто-белые коровы, а уже по горушкам прошила яркая зелень, и от нее, и от стремительных ручьев, и от свинцовой чавкающей няши в берегах, и от свежих опилков тоже тянет весенним неповторимым духом, на коем, как на дрожжах, и выбраживает неповторимый северный день. У мужиков рожи копченые, глаза изголуба-хмельные, какие-то расплывистые, будто бы приослепшие от случайно пойманной бабьей ласки, и пусть на один день нынешний, но вся хмарь куда-то прочь из груди. Словно бочки с пивом выкатили на улицы неведомые приказчики, и вот мужики наши причащаются даровым гостинчиком, не боясь себя испроказить. Серые с зимы изобки и те подрумянились в окнах, высветлились белеными наличниками, подбоченились, вздернули покруче грудастых коней на охлупнях. Хотя, братцы, чему веселиться-то? Да кончилась же зима обжорная, здравствуй, страда горбатая до поздних осеней…
И куда обида делась, за какие печати затворилась до времени? Нырь в темную запашистую норушку, притихла — и словно не была. Слагай, поэт, гимны, ибо только по веснам душа поэта распахнута настежь! И в голове Вани Ротмана зароились слова, затеялись строки. Звень-звень топоришком, вжик-вжик рубанком, чшиу-чшиу фуганком, а после-то наждачной шкуркою, да бархоткой, да слоистыми мозолями по нежному разогретому дереву:
Звени, наковальня, и, молот, бей!
Из кущ сиреневых вторь, соловей.
Из горнего неба
С буханкою хлеба
Придет усталый гонец
И вручит победный венец.
… Ай да Ваня, ай да Ротман, ну и сукин сын!
Ротман встряхнул головою, невольно замедлил размашистый шаг и засмеялся. Миледи споткнулась, припала к мужней спине щекою, потерлась о сукно пиджака, как кошка, и — о досада! — вдруг против воли сказала:
— Ваня, ты ошейник-то верни, он не к добру.
Ротман приоглох от стихов и бабьего вздорного совета не услышал. На углу Клары Цеткин стоял районный банк, приземистый каменный домишко времен царя Гороха, с толстыми, в метр, стенами, отчего зарешеченные оконца казались бойницами, за которыми, выставив ружья, притаилась свирепая охрана, скрадывающая разбойников. На облупившемся крыльце томился колченогий сторож Федя и от безделицы покачивал милицейской резиновой погонялкой; возле ржавого лица его вились невидимые мухи; отгоняя их, старик зажимал пальцем норку и гулко прочищал нос. Весь постный, утомленный скукою вид мужика уведомлял: иль деньги окончательно перестали завозить в банк, или все наличные с утра уже разбазарили по невозвратным кредитам. Напротив через улицу на избенке, смиренно поклонившейся банку, торчала зазывистая вывеска: «Магазин „Светлячок“. Маслов и К0». Новый русский купчик, неожиданно проросший на закате века из недр социализма, подточил его устои и сейчас похихикивал над затеями бедной немочки Клары. Сам мордастый лабазник с хеканьем разваливал сукастые еловые чурки, время от времени отставлял блескучий топор и, крутя рыжий потный ус, с неведомым гордоватым весельем посматривал то на груду сырых поленьев, то на невзрачный продуктовый ларь, то в извилистый, захламленный поленницами тупичок Клары Цеткин, чей покой во весь день не нарушила ни одна собака.