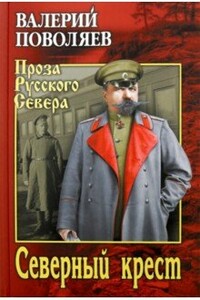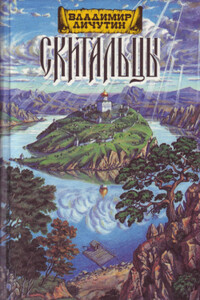Миледи Ротман | страница 122
Но для Миледи эта нуда как наждак по сердцу; дом становится невыносимым. Кажется, вот хлопнула бы дверью — и навсегда за порог. Ну, выскочила, ну, кинулась сломя голову в безбрежные дали, куда и Макар телят не гонял, но уже через сто метров ноги вспотычку, словно бы заячьи петли наставили, и слеза душит горло, и хочется обратно под родительский прикров, пасть на колени пред татушкой-матушкой.
Последнее, что слышала, надевая в сенях сапоги:
— Нашу-то, кажись, мужик зарядил. То смеется, то плачет, — сказал Яков Лукич.
— Да непохоже, что уконопатил. Баба-то на сносях что курица на яйцах, все ощипывается: то у нее платье на животе тянет, то на груди льнет, — со знанием дела ответила мать, выглядывая в окно.
«Много вы понимаете в колбасных обрезках», — подумала Миледи и, помахивая коробейкой, заспешила в лес. В голове у нее мутило, под грудью подташнивало. Сон из головы не шел, все хотелось разгадать его соль, досмотреть до конца, до того самого места, которое чем-то устрашило ее… Навязчиво думалось, что стоит лишь разгадать неувиденное, и вся будущая жизнь объяснится сама собою, станет прозрачнее чистого зеркала.
… Было же, видела однажды смерть и разговаривала с нею, но та была в обычном обличье: старуха беззубая, с проваленным носом, с космами седых волос, и наточенное косье сверкало на ратовище, как ночной месяц-молодик при ясной тихой погоде, когда случайно натекшее на луну тонкое облачко лишь оттеняет ее необъяснимую странную притягливость. Но тут-то смерть наснилась похожая на немку-модельершу, которой за один выход к людям платят десять тысяч долларов: зубы у нее фарфоровые, улыбка пластилиновая, груди восковые, волосы из пакли, зад из пробки, пропитанной парафином. Так и хочется эту девку раздеть и выбить из нее мутовкой всю пыль, как из залежалого ковра.
… Думаете, я завидую? Да если нас выставить друг перед дружкой, то еще неизвестно, чьи титьки перетянут. Меня-то надувать не надо, и в колодки я не полезу. Она — скрипичный ключ, под его размер дуры девки себя в хомут ставят, а я — сама скрипка и пою тем голосом, на который изготовил меня Господь, а не изворотливый делец…
Мысли сметывались самым причудливым образом, и нельзя было связать начало с концом, словно бы сон еще продолжался, сделав неожиданный крюк.
В природе была разлита симфония увядания, какой-то праздничной, торжественной грусти, но Миледи была слепа и глуха к тяжким вереницам облаков, изредка перебиваемых ослепительно синей холодной полыньею, в которую словно бы ниоткуда вдруг заныривали табунки сполошливых уток или вереницы белоснежных, как бы тяжело нагруженных доспехами лебедей; потом вороха облаков, эти непричесанные копны, торопливо смыкались, задергивая всякую прорешку, и сверху бусил мелкий холодный дождишко, окрашивая темным глянцем желтые косицы берез, и сочный багрянец хлопотливых осинников, и сиротливо поникшие от влаги ивняки, уже тронутые смертным тленом.