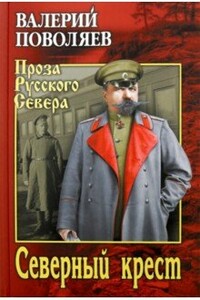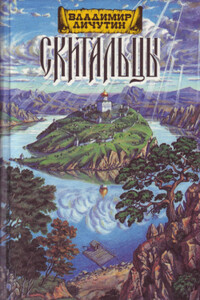Миледи Ротман | страница 105
— Я чего до тебя-то? — с мерзкой для себя, какой-то извинительной слабиною в голосе пробормотал Алексей, думая, как бы ловчее отступить прочь. — Иду, думаю. Вот увижу тебя и скажу: сдохнешь, Ротман, — я тебе красивый памятник соображу на могилке. Уже и камень гранит приспет. Откопал в Инькове ручье, домой приволок, не поленился. Даешь согласие?
— Спасибо, дорогой. Раз без камня за пазухой, проходи, гостем будешь. А тот камень пускай подождет, — рассмеялся Ротман, и смех его походил на серебристое гулькание ручья по камешнику. Не оглядываясь, он повернул в избу, косолапя, странно выворачивая узкие, с розовыми пятками стопы, будто к ним пристали комья глины. Ягодицы были как тугие яблоки.
Братилов с интересом оглядел двор. С внутренней стороны к ограде были нарыты земляные террасы, на откосах высажен ягодник. В сторону реки тянулся клин под картошку; трава на замежках взята под косу. Сама же изба зрелище являла печальное, идя к неизбежному концу, и, как древняя старуха, конечно, нуждалась в ключке подпиральной, в участливой верной державе, но, кинутая в сиротстве, уже не ждала подмоги. В свое время была она ставлена с размахом, рассчитана к плаваниям долгим и к зимним осадам жестоким; все подызбицы и клети, подклети и хлевища, овечьи стайки и крыльца, взвоз и поветь рублены из леса кондового, зрелого, и сейчас в трещины, взорвавшие каждое бревно, можно бы с легкостью засунуть кулак, но так и не дотянуться сквозь коричневую стариковскую болонь до самого сердца. Каждая лесина в мужицкий обхват и более была сплавлена откуда-то с верховий реки, вытартана на лошадях в подугорье, потом по слегам выкачена наверх и тут, на лежбище, протомившись с год в штабелях, ошкуренная и отглаженная теслом, уютно легла в клети; курицы, и желоба, и охлупень, и тесовая крыша и поныне имели вид хоть и седатый, припечалованный, но явно богатырский и оттого еще более жалкий, всем своим обликом обнаруживая, что жизнь покатилась и назад ее при всех усилиях не вернуть.
Изба хранила в себе предание и тем более понравилась художнику. Ее можно было рисовать и в утренних зорях, когда первый солнечный луч из-за великих тундр ударяет в боковую стеклину, и в хмурый полдень, посекновенную дождем, и в пуржистые сумерки, когда каждое бревно заиндевело, поседатело и с водостоков, как старческие брови, свисают козырьки снега, и в летнем вечеру при багровых полотнищах заката, когда огняные перья дальнего небесного пожара подпаляют косящатые красные окна в коричневых окладах, похожие на мутные образа. Это было воистину богатство, да еще какое; и подымаясь в дом по ребристому взвозу, покрытому зеленым мхом, на поветь, куда скрылся хозяин, Братилов невольно позавидовал ему. Воистину, на «Шанхае» мог жить только поэт или художник…