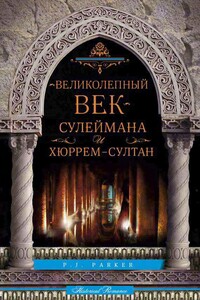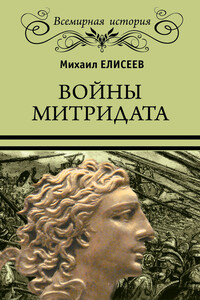Ганзейский союз | страница 88
В XV в. все более жесткое давление, какое оказывали на города местные правители, вызвало появление новых союзов, которые назывались tohopesaten (буквально «стоящие вместе»). В 1418 г. Любек, официально признанный главой Ганзы, предложил создать союз по типу союза вендских городов. Он должен был объединить около 40 ганзейских городов из разных регионов и в случае агрессии предлагать посреднические услуги, а затем, в случае необходимости, вести военные действия. В плане предусматривался размер воинского контингента и финансовых субсидий, которые должен был вносить каждый город. Судя по всему, предложение Любека одобрили в принципе, но впоследствии нельзя найти следов того, что его воплотили в жизнь. Однако планы по созданию такого союза появлялись и в 1430, и в 1443 г., и позднее. На сей раз предложение ограничивалось городами из любекской трети.
В попытках объединить все ганзейские города в более тесный союз с точно очерченными обязанностями tohopesaten имели весьма скромный успех. Такие усилия неизменно вызывали отторжение городов, испытывавших неприязнь к обязательствам политического или военного свойства. Они оказались совсем не такими действенными, как региональные союзы, в которых чувство солидарности укреплялось угрозой подавления со стороны общего для всех участников правителя. Кроме того, всегда считалось, что союзы типа tohopesaten резко отличаются от «настоящей» Ганзы. Надежда, которую какое-то время лелеял Любек, превратить Ганзу в подлинный союз не оправдалась, и Ганза так и не стала чем-то большим, чем сообщество, преданное исключительно коммерческим целям.
И все же, несмотря на структурные недостатки, нельзя сказать, что Ганза не обладала средствами, с помощью которых она заставляла своих членов, а также иностранные государства соблюдать ее решения. Если Ганза имела дело с каким-либо отдельным городом, применялись методы убеждения, затем переговоры и, в случае их неуспеха, санкции. Если город упорствовал, его часто заставляли подчиниться с помощью писем, устных посланий и угрозы исключения. Споры, возникавшие между двумя ганзейскими городами, были серьезнее, и важно было достичь урегулирования, не допуская вмешательства извне. На Ганзейском соборе 1381 г. выработали точные инструкции по данному вопросу. Так, если в конфликт вступали соседние города, их призывали к встречам и попыткам примирить противоборствующие стороны. Однако следовало избегать любого участия территориального правителя в таких переговорах. Если переговоры не увенчивались успехом, вопрос следовало передать Ганзейскому собору, который выносил окончательное решение. Обращаться к любому правителю или императору Священной Римской империи запрещалось. Естественно, эффективность такой процедуры бывала очень разной. Обычно конфликт удавалось урегулировать, и после долгих и трудных переговоров стороны приходили к компромиссу. Однако время от времени какой-нибудь правитель, ревностно относившийся к своему авторитету, запрещал городам, которые находились под его юрисдикцией, выносить споры на Ганзейский собор. Так в 1426 г. поступил великий магистр Тевтонского ордена, когда возник конфликт между прусскими городами. В иных случаях Ганзейскому собору, столкнувшемуся с отказом подчиниться его решению, приходилось прибегать к санкциям. В мелких делах, например при халатном отношении к исполнению ганзейских обязательств, нарушителей штрафовали. В серьезных случаях, особенно когда законным образом избранный городской совет свергали насильственным путем, собор постановлял исключить мятежный город из Ганзы, таким образом лишив его купцов заграничных привилегий и всяких коммерческих отношений с другими городами. Как было показано выше, так исключали Брауншвейг (1375), Бремен (1427) и Кёльн (1471). Правда, исключение было временным. Принуждение мятежного города к повиновению путем военных действий никогда не рассматривалось.