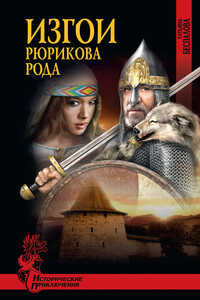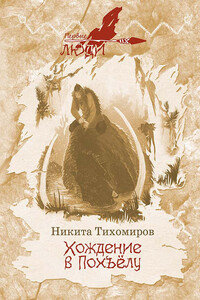Мосты в бессмертие | страница 57
Она кивнула, не поднимая глаз. Что это, притворное смирение, или?..
Ноябрь катился к концу, но зима все не наставала. Снег выпадал и таял, растворяемый ледяными дождями. Ни осень, ни зима. Вот она, знаменитая русская тоска, скука. Фронт затих в отдалении. В госпитале жизнь шла своим чередом. Лабораторное оборудование было распаковано и расставлено по местам. Дизель-генератор запущен. Штурмбаннфюрер Зибель отбыл в соседний городишко да и пропал, занятый какими-то неотложными делами. То ли застрял в непролазной грязи, то ли перестал волноваться о судьбе своего подопечного. А тут и первые пациенты прибыли. Началась настоящая работа. Гаша по многу часов проводила в лаборатории, вела записи, брала кровь у пациентов, готовила лабораторные образцы.
Наступившая наконец гнилая зима принесла под полой первые неудачи. Трое пациентов – немецких солдат, добровольно согласившихся на применение нового лекарства, умерли от прогрессирующей гнойной интоксикации. Лекарства, изобретенные Отто, не дали ожидаемого эффекта. Четвертому пришлось ампутировать обе ноги. Но операция была сделана слишком поздно. Умер и он. Отто корпел в реакторной, кричал, ругался. Удрученный и злой он вспоминал о Гаше только по вечерам, когда требовалось делать записи. В хозяйской хате не было электричества, и он устало тер близорукие глаза, просил хозяйку топить баню, подолгу лежал на верхней полке, во влажной духоте, дожидаясь прихода Гаши.
Гаша приходила сама, не дожидаясь зова. Она действительно оказалась отважной и опытной, любила приходить под конец, когда банный жар уже истаивал потом. Тогда она заставала Отто в блаженной полудреме. Незадолго перед ее появлением он открывал дверь в парилку настежь, а дверь из предбанника на улицу лишь слегка прикрывал. Под низким потолком банный жар смешивался с ноябрьской промозглой тишиной. За дверью тихо моросил последний в этом году дождик.
Отто ложился на живот, на верхнюю полку, утыкался лицом в войлочную банную подстилку. Он изгонял прочь мысли о неудачной работе, он распалял себя, размышляя о ней. Лежать становилось неудобно, но он терпел, он ждал ее появления. И она приходила. Сначала он смотрел украдкой, как она раздевается. Потом он начинал свою обычную игру. Он зажмуривал глаза, притворяясь спящим при ее приближении. Она подходила, становилась коленями на нижнюю полку, прикасалась к нему.
Порой ему казалось, будто рядом с ним посреди холодной русской степи не чужая, слишком юная девушка, а его Аврора. Будто там, снаружи, за бревенчатыми стенами, не моросящий мерзким дождичком, унылый русский ноябрь, а обнаженные, напоенные ароматами сырой земли и хвои леса венских предместий. Она массировала его тело, забираясь пальцами в самые укромные места. Он переворачивался на спину, подставляя ей грудь и живот, упирался ладонями и ступнями в бревенчатые стены. Почерневшие бревна были так же влажны и горячи, как ее губы. Едва сдерживаемое желание схватить ее руками, распять, распороть ее плоть внезапным вторжением, исторгало из него стоны. И она вторила ему, словно подпевала хорошо знакомой песенке. Порой казалось, будто она может все сама, точно так же, как это делала неуемная Аврора. Но это было бы нарушением правил игры, игры, придуманной и для себя, и для нее. Казалось, она беспрекословно приняла эти правила и строго следовала им. Да, она была и строгой, и добросовестной, и сладостно-ласковой одновременно. Ни разу не посмела она преступить рамки правил и ласкала его, с терпеливой настойчивостью добиваясь развязки. Развязка наступала. Бурная и всегда внезапная, она мутила его разум, заставляя тело содрогаться. Он кричал, а она прикладывала к его губам мягкую, влажную ладонь и неизменно целовала в лоб. Эта материнская ласка успокаивала его, он затихал, тело расслаблялось, разум умиротворялся.