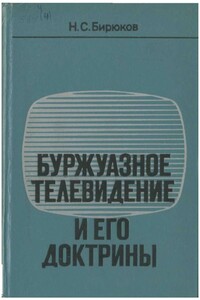Набоков, писатель, манифест | страница 26
Бесприютность, терпкость, гулкость человеческого существования – вот что слышится в “Машеньке”, в рассказах 20-х годов, во всех ранних, русскоязычных вещах Набокова. “В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые, холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны, – всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, – и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким.” Или тот пейзаж, что видит за окном собрания Чердынцев? Двуцветие рекламы, электрический поезд, черный и маслянистый асфальт и человеческое одиночество в нем, одиночество существа, этому миру не принадлежащего, не от него рожденного, но тот родной мир потерявшего, от этого теперь на жизнь зависимого, – и потерянный мир был не Россией (или не просто Россией), и не раем детства (или не только им), а той заоблачной глубиной, где обитала человеческая душа до прихода на землю и которую не смогла забыть в пыльном берлинском пансионе: “и песен небес заменить не могли…” Это одиночество и чуждость человека изначальны, не объяснимы никаким изгнанием из страны, – скорее изгнание раскрыло клапаны души изгнанника, чтоб увидеть иное, взглянуть за предел личного опыта, за предел видимого мироздания.[24]
И какой щемящей нотой звучат воспоминания сестры Набокова Елены, в замужестве Сикорской, которая вернулась однажды в ту реальную Россию, где мы с вами проживаем: “На станции, где нас раньше забирал кучер, стоял автобус с табличкой “Рождествено”… Конечно, странно было все это видеть. Особенно странное ощущение охватило меня в Петербурге – казалось, что все вокруг – декорации, а люди, снующие мимо, не имеют ни ко мне, ни к городу никакого отношения. Будто улицы полны беженцами – только голуби и собаки остались прежними.”[25]
“Реальная” Россия имела и имеет небезусловную связь (и уж тем более не идентична) с той родиной, о которой тоскует Набоков. И, может быть, Адамович, сказавший, что Мартын с равным успехом мог уехать в Полинезию, а не в Россию, был более проницателен чем гневен – хоть и сам, как кажется, не понял того.
25
Об одиночестве
Набоков всегда был одинок; эту одинокость, одиночество он возводил в королевский ранг, присягал ей. “…меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливец плыл совершенно отдельно, совершенно один”.