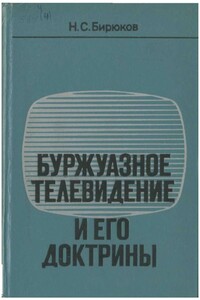Набоков, писатель, манифест | страница 24
Как г-н Гудмэн понял рассказ Найта? Вполне в духе благолепной эмигрантской и позднесоветской критики он осуждает рассказчика за то, что тот без должного пиетета отнесся к явлению смерти; в скрипящем развороте мысли на тормозах тотчас за кладбищенской околицей ему видится глумление над сыновними чувствами. Вместо того чтобы рассказать о библейской печали, таящейся в смерти, и босым, в ряске, со шмелевской свечкой в руке пройти сторонкой в божий храм, – Набоков рассказывает анекдот, подбрасывает читателю аппетитную истину и, только тот Каштанкою успевает проглотить ее, за веревочку вытягивает наживку обратно. Пиши г-н Гудмэн свою книгу о Найте дюжиной лет позже, он непременно упомянул бы о “Постороннем” Камю с его курением сигареты над материнским гробом. Промашку г-на Гудмэна исправил г-н Анастасьев.
(Между тем образ Набокова весьма ясен и целенаправлен; он повторяется в других романах с той же настойчивостью. Пытающийся постичь загадку и тайну бытия уже здесь человек подходит к ней так близко, что казалось бы, уже настигает ее, – но всякое утверждение, всякое формирующееся представление о ней лишь заманивает в ложную глубину, чтобы затем выбросить ловца обратно к разбитому корыту действительности. Тайна играет с человеком в кошки-мышки, и всякого, кто хочет ухватить ее за подол, она мягко и с улыбкой ставит обратно на свое место, как любопытствующего Синеусова, если только не прихлопывает, как Пильграма, могильным камнем.)
Каждому непостижимому и сложному движению набоковского онтологического устремления есть отражение в его прозе, и каждому образу, сформированному в набоковской прозе этим онтологическим стремлением, есть, к сожалению, примитивное толкование критики, наводящей лишь тень на социологический плетень. Рассматривать прикладную проекцию, разумеется, удобней и ловчей, но жаль, что эти правоверные критики, покидая содом и гоморру набоковского творчества, хоть раз лотовой женой не обернутся на источник света, – чтобы можно было благословить день, в который шаблонное писание популярных предисловий прекратило теченье свое.
Набоковское представление о ценности и важности личности – или, точнее, ценности того ракурса взгляда, мысли, чувства, который обыкновенно подменяется понятием индивидуума, у Набокова отсутствующего (“Единственное реальное число – единица; с двух уже начинается счет, которому не будет конца”) – принимается лишь капризным нежеланием участвовать в общественной жизни. (Тут можно было бы привести множество примеров из романов Набокова, взять хотя бы вербовку Годунова-Чердынцева в ревизионную комиссию Союза литераторов (“Не хочу валять дурака” – “Ну, если вы называете общественный долг валянием дурака…”) Набоковское желание добраться “до себя истинного, до сияющей точки, которая сияет “Я ЕСМЬ!” – низводится до эгоизма барчука или – страшно выговорить, хотя то уже заявлено самым известным (!) биографом Набокова