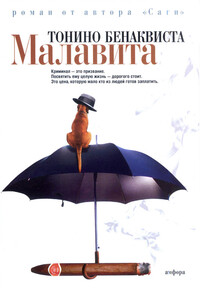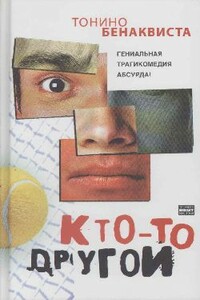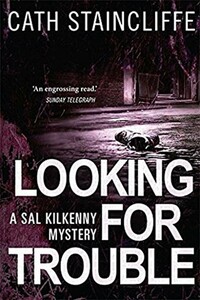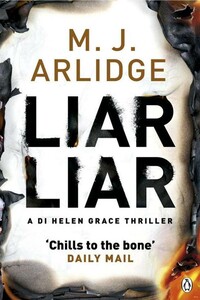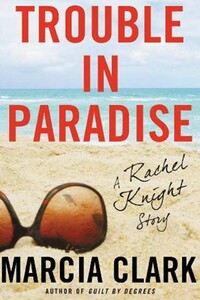Малавита - 2 | страница 44
Зовите меня Измаил.
Так, значит, это первая фраза. В общем-то, почему бы и нет? Парень просто говорит, как его зовут, представился — и дело с концом. Можно идти дальше, переходить ко всем этим штучкам — открытое море, кит и все такое. Это ж надо было решиться начать вот так, просто, без прикрас, подумал Фред, потративший уйму времени на сочинение первой фразы «Империи тьмы», второго своего романа. А ведь он вполне мог начать так же:
Зовите меня Ласло Прайор.
Мелвиллу можно, а Фреду — нет. Нет у него на это никакого права. Когда он решил начать писать, домашние не приняли его нового занятия и всячески над ним подтрунивали, а он молча сносил их насмешки — не расправляться же с собственной семьей? Однажды он случайно услышал слова Уоррена — самые жестокие из всего, что он уже слышал: «Папа? Пишет роман? Да обезьяна, которая молотит без разбора по клавишам, и та скорее выдаст что-нибудь путное, чем он!» Фред воспринял этот образ буквально и представил себя в виде шимпанзе, который, гримасничая от напряжения, раздумывает, на какую клавишу нажать — все равно на какую. Это повторялось каждый раз, когда он осмеливался закрыться у себя со своей машинкой и пачкой бумаги. Его не щадили, словно его безумная мечта их пугала. Да, они боялись, но не только того, что он вытащит наружу свое гангстерское прошлое и запишет на бумаге свои воспоминания — воспоминания кровавого убийцы, этот страх лежал гораздо глубже, и его невозможно было определить. Фред не должен был писать, потому что это неприлично, это выбивается из привычной логики вещей, не вписывается в обычное мироустройство. Кроме нелепости, было в этом что-то гнусное, как во времена его мафиозной деятельности, — полное отсутствие уважения к общепринятым нормам, безнаказанность, позволявшая с легкостью попирать человеческие законы и создавать новые для личного употребления. Принимаясь за роман, он брал читателей в заложники, как когда-то клиентов банка. И не важно, какой будет результат, пусть даже не самый плохой, — зло уже свершилось и продолжало совершаться изо дня в день, не подлежа обсуждению, ибо никто, даже внутренний голос, ни разу не сказал Фреду: