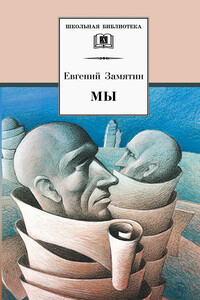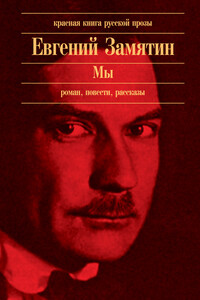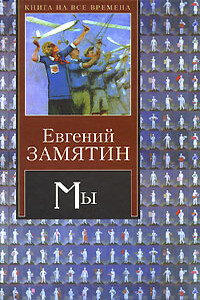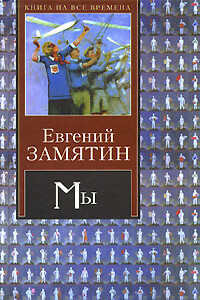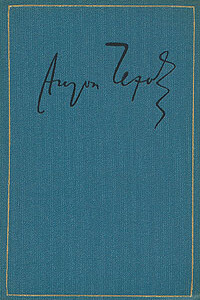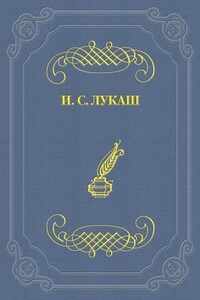Уездное | страница 39
Потом люди пришли — четверо, и наполнили камеру шумом и говором, незнакомым и новым. И казалось, они двигались неслышно, и неслышно раскрывали рты, и махали руками, а звуки жили отдельно и все были в одном месте — точно выходили из какой-то трещины в своде. Было все, точно во сне.
Искали везде. Наклонялись и поднимались — неслышно — и бросали белье, и потом сидели по углам, и тогда не было видно их лиц. Брали книги и высоко поднимали их, перелистывались неслышно страницы и пестрели, белые, в глазах — это было неприятно. Прятались под кровать.
И потом вдруг грубо перевернули его и поставили на ноги, и ползали по телу грязными руками. Холодные руки клали на одно место и долго держали так зачем-то. Потом двигались дальше и сжимали его со смехом.
Смеялся один из них и говорил наглые, грубые, бьющие в мозг слова о какой-то девушке — и потом все смеялись грязным, ползающим по телу смехом.
Острой, холодной льдинкой упала в раскаленном мозгу мысль: это — знакомое, это — он слышал.
И вдруг ужас перед сделанным захватил дыхание. Это были — его слова! Это — он писал! Нашли письмо — и повторяют его слова — о Лельке. Из письма, из письма…
А хохот еще дрожал, и издевался, и плевал — в его Лельку. Туманом застлало глаза.
Размахнулся и ударил одного — в лицо, в смех. Голова назад покачнулась — ах, хорошо.
Упало что-то горячее на грудь и на темя — сзади. И потом поплыло в красном, жарком тумане. Мысли утонули в черном…
Темно на дне…
И вдруг — точно повернули внутри кнопку электрической лампы. Очнулся — и все случившееся вздрогнуло и проснулось в сознании и стало понятным и болезненно-ясным — точно вырезанное из мрака молнией.
Одинокая и резкая, как шпиц колокольни в грозу, забелелась на темном и кольнула мысль.
— Значит, конец.
Дрожь пробежала, будто что-то тысяченогое, по телу.
Потом зазвучал вдали неясно и чуть слышно какой-то вопрос — и Белов закрылся от него. А он летел с бешеной быстротой, точно одинокий локомотив, и бил уже в набат, мчался и потрясал воздух, и грозился свалить.
Поднялся Белов и пошел, легкий, качающийся, точно он не имел весу.
Стоял у трубы и уже знал в глубине он, что нет Тифлеева, и зарывал эту мысль старательно и хотел не смотреть на нее.
— Тук-тук-тук, — сверкнули звуки и тысячу видений осветили в душе.
Страшно было поверить сразу. Еще постучал.
И поднялось молчание снизу, выросло и расширилось. И стало огромное, как мир, как ужас.
Месяц смотрит бледными глазами и молчит. Темнота стала мертвой и холодной. Вздрогнули и замерли стены.