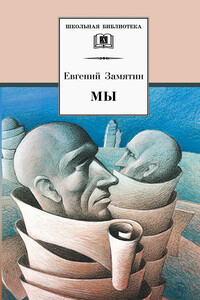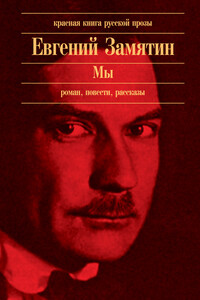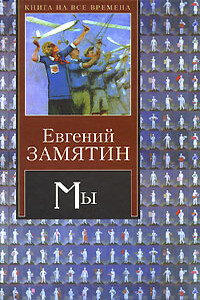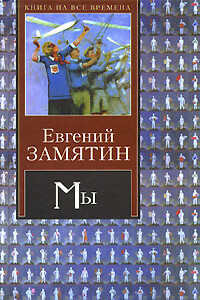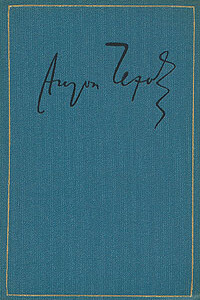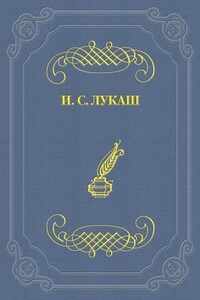Уездное | страница 25
— Где все это? Куда делось?
И казалось — ушло назад, как тихие, кудрявые берега, и смотрит сейчас издали.
А вдали опять запели. Опускались потихоньку звуки, целовали.
Белов закрыл глаза. Было хорошо, вспоминалось самое светлое, самое любимое.
…Длинные, зимние вечера — вдвоем, в мягком свете лампы с зеленым, надвинутым абажуром. Вместе с ней, с Лелькой, заглядывали в темную бездну загадок жизни и смело стучались в глухую стену и прислушивались к эху.
…Было что-то нежное и тонкое — как взгляд, как запах. И оборвалось — нелепо. Лопнули струны на половине аккорда — больно!
— А если оно вернется, красивое? Дадут свидание Тифлееву, можно будет передать ей письмо?
Буйно кровь застучала, забегал по камере.
И точно в ответ труба зазвенела…
Дали во вторник! Брызнуло светом и разнесло тьму, унизанную призраками. Забилось сердце — точно начинало жить.
Белов остановился. Нарочно сказал себе:
— Ну, что ж. Ничего особенного.
И опять смеялся тихим, как дыхание, смехом радости, закрывая рот рукою. Мыслей было никак не собрать: точно вырвались из клетки и носились над горячими волнами в светлом просторе. Не знал, что писать.
Потом взял бумагу — давно уже была приготовлена — и написал только:
«Я сижу в тюрьме. Камера 201. Хотел бы получить от вас письмо тем же путем, каким получится и мое.
Сергей Белов».
Подумал и прибавил: «Ваш Сергей Белов».
Передать письмо вниз, к Тифлееву, решено было в воскресенье вечером.
Весь день стояла в тюрьме праздничная тишина — жуткая, томительная. Точно слушают все, что делается за стенами.
Там, должно быть, все живые и бодрые, как сухой морозный воздух, как праздничные блестки инея. Там, должно быть, яркое, смеющееся солнце, сверкающий жизнью смех на чистом, скрипучем снегу. И в светлой, яркой комнате — радостная, кипучая работа рука об руку…
— А это все, что казалось вчера радостью — разве это жизнь?
Целый день лежал. Опять надвигалась издали пустота, и маленькой, тоненькой болью тоскливо ныло сердце — ушло куда-то глубоко, и чуть слышно оттуда его стон.
Молчал весь день и Тифлеев. И казалось, что все в тюрьме молчат и глотают тоскливые, мучительные слезы. Неужели там, снаружи, может быть весело?
— И Лельке тоже, может быть, хорошо — с кем-нибудь?
Хотелось застонать протяжно и долго: а-а-а! — как от боли.
К ночи небо стало тревожно-бледным и глубоким, точно убежало вдаль от пристального мертвого взгляда луны.
— Будет видно письмо при спуске.
Белов нахмурился. Черные, смутные страхи закружились около, прятались по темным углам и выглядывали оттуда, холодными пальцами прикасаясь к нему.