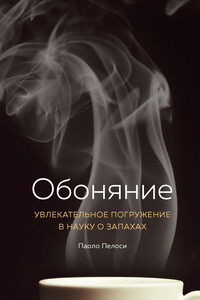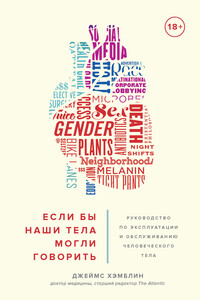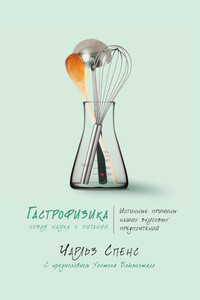Зачем мы говорим | страница 90
Есть мнение, что этот риторический прием обладает такой силой, потому что совпадение двух компонентов случается чаще, чем трех, и если так происходит, то слушателям кажется, что в этом кроется какая-то истина. Мозг старается найти хоть какие-то зависимости, чтобы объяснить мир. В частности, исследования, использующие методы нейровизуализации, обнаружили, что префронтальная кора перебирает кратковременные сенсорные модели, чтобы предсказать, что с большей вероятностью можно будет услышать или увидеть через мгновение>{213}. Этот навык приобретается в очень раннем возрасте: если двухмесячному младенцу показывать изображения попеременно справа и слева, он начнет двигать глазами по направлению следующего изображения, предвосхищая, где оно появится. Точно так же и овладение языком частично состоит в том, чтобы предугадать, как будет строиться предложение. Значит ли это, что трехкратное повторение обладает каким-то идеальным для мозга магическим свойством? Исследования показывают, что сочетание трех компонентов подходит для рекламных кампаний, например в борьбе за безопасность на дорогах: «Остановись, смотри и слушай», а дополнительный четвертый компонент вызывает скептическое отношение>{214}. Однако мы не знаем, происходит ли это из-за какой-то необъяснимой целостности, создаваемой сочетанием трех компонентов, которыми мозг отмечает такую длину как идеальную для формулировки эмпирического правила, или является лишь приобретенной реакцией, вызванной тем, что такие трехкомпонентные списки встречаются очень часто.
Чтобы подавать аудитории знаки, ораторы используют и другие приемы>{215}. Самые очевидные — это жесты, причем некоторые ораторы управляют своими слушателями, как дирижер оркестром. Бывший президент Национального союза шахтеров Артур Скарджил эффективно использовал эти приемы: когда аудитории следовало аплодировать, он держал руки ладонями вниз, а когда нужно было просто хлопать, он делал быстрые пассы руками>{216}. Но конечно, ключевым сигналом для аплодисментов является и само построение выступления: как меняется тон голоса, темп речи и как используется интонация. Именно эти навыки отличают харизматичного оратора.
Розарио Синьорелло, преподаватель Университета Новая Сорбонна в Париже, занимается исследованием голоса и речи и специализируется на исследовании факторов, делающих речь политиков харизматичной. Он изучил высокопоставленных политиков Бразилии, Франции и Италии и попросил слушателей оценить качество их выступлений. Чтобы исключить влияние политических предубеждений, слушатели оценивали ораторов из другой страны, говорящих на языке, который им незнаком. В противном случае может случиться так: «Французы скажут мне: “А, это Саркози”, и как бы я ни просил их оценить харизму этого оратора, они будут повторять “Да этот парень — просто отстой” просто потому, что это Саркози». Результат оказался предсказуемым. Исследование показало, что ораторы подстраивают свой голос под аудиторию. На митингах политики используют разный тон голоса, чтобы создать более заинтересованный и живой стиль, а во время интервью тон варьируется значительно меньше. На больших собраниях ораторы чаще всего меняют громкость и тон голоса настолько, что иногда это превышает акустический диапазон, свойственный обычному разговору. Синьорелло убежден: это делается для того, чтобы отдельные части выступления находили отклик у разной аудитории. Если слушатели хотят, чтобы их лидер демонстрировал превосходство и власть, они откликаются на пассажи, произнесенные низким тоном, а если они хотят понимания и сострадания, то обращают внимание на то, что произносится на более высоких нотах.