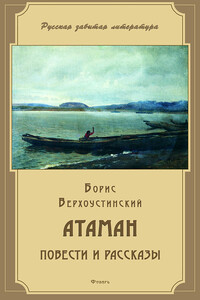Осенняя паутина | страница 74
Поезда один за другим подходили к Заболотью и останавливались. На станции скопилось до тысячи людей, негодовавших, кричавших, пивших, евших, грозивших кому-то и требовавших начальства. Заболотье ожило так, как ему никогда не снилось.
Начальнику уже не было времени петь: «Я не мельник!.. Я ворон...» Не чувствуя под собою ног, он растерянно носился здесь и там, охрипшим голосом отвечая на все претензии:
— Господа — я не Бог!
Телеграфисты также работали чуть не до потери сознания, принимая и отправляя депеши.
В последний вечер в телеграфную вошла блондинка в лисьей ротонде, пахнувшей духами фиалок и мехом, и подала телеграмму.
Барбашев машинально принял её, и ему показалось, что когда-то где-то он видел это мимолётно явившееся ему лицо. Но усталость и масса работы не позволяли остановиться на этом впечатлении. Он отправил телеграмму, и кажется, она была адресована на станцию Дубки, и подпись под нею была — Балина.
Однако впечатление так запало в душу, что, окончив своё дежурство, полумёртвый от усталости, прежде чем идти спать, он прошёл по зале, ища глазами блондинку в толпе.
В зале её не было.
Тогда он отправился наверх, в квартиру начальника станции. Там часть этой огромной толпы, желая как-нибудь убить время, устроила импровизированный концерт: нашлись певцы, певицы, музыкант со скрипкой и даже какой-то поэт, читавший с необычайным пафосом свои стихи и потрясавший головой и руками.
Но блондинки не было. Она точно в воду канула. Может быть, спала где-нибудь в вагоне. А может быть, измученному телеграфисту пригрезилась она в минуту невыносимой усталости.
Как бы то ни было, вернувшись в свою конуру, он достал откуда-то полуистлевший букет фиалок и швырнул его за дверь.
Теперь и эта встреча припомнилась Барбашеву, и он уже не сомневался, что то была именно Балина, маленькие ножки которой будет целовать пославший телеграмму. Кто он? Её муж? Любовник?
Так-нет, так-нет... — стучат часы, и движутся роковые тонкие пальцы. Все Заболотье погружено в сон, и не спят только эти тонкие пальцы да одинокий телеграфист. Ему то холодно по временам, точно он налит весь ледяной водой, то он пылает от жара, и вся кровь в нем звенит, звенит необычной, волнующей музыкой. Он все яснее и яснее чувствует, что здесь, в телеграфной, только часть его, нечто вроде футляра, а сам он — у той пристани, о которой мечтал так давно и так страстно.
Бедный Тютик! Ему вряд ли придётся когда-нибудь переживать то, что переживает теперь старший товарищ. Долго ещё будет он слышать рёв пьяного начальника: «Я не мельник!.. Я ворон» — и довольствоваться ласками грязной кухарки на коротких ногах, попавшей на станцию из голодной деревни.