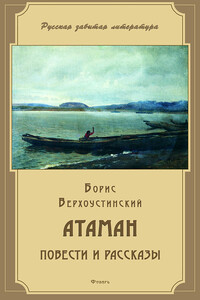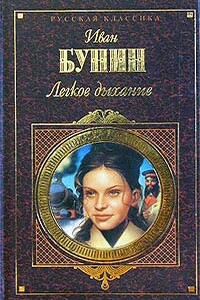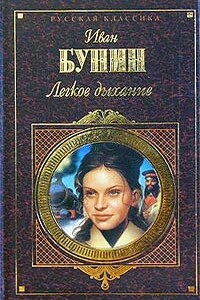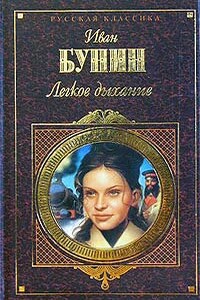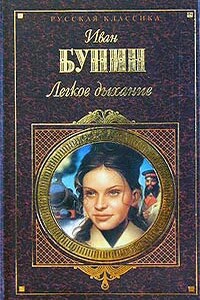Осенняя паутина | страница 18
Воспоминание о ней так слилось с впечатлением от цветка, что у него выступили на глазах слезы от одного прикосновения цветка к щеке.
— Милая, милая, — прошептал он, закрывая глаза от беззаветного восторга и тихой печали. На мгновение он забыл о небе, о земле и об аистах, — но в ту же минуту почувствовал, что краснеет от осветившего его сознания: стало неожиданно ясно, что он любил жену своего брата не так, как родную, а в это чувство вливалось другое, о котором он сам не подозревал даже за час перед тем. Из земли, где тлел её прах, она дала ему постичь смысл и особенность его любви к ней. Любовь раскрылась в теплых душистых испарениях, в венчиках безуханных, слабых, но не боящихся заревого холодка цветов, в сиянии неба, которое льётся в самую кровь. И оттого ему хотелось поцеловать землю. Это откровение сначала испугало его самого. Не было ли оно греховным и оскорбительным для её памяти?
Он оглянулся вокруг, спрашивая небо и землю, и весну: так ли?
Все улыбалось ему в ответ весело и ясно, и на душе сразу стало легко, как в облаках.
Курлы... курлы... беседовали аисты, и их голоса мягко и печально журчали в степной тишине.
Теперь они уже не стояли так важно, как раньше, а плавно переступали с ноги на ногу, не нарушая круга, точно танцевали, и средний был дирижёром.
— Трогай, Семён, потихоньку — я рядом пройдусь, — обратился Сева к кучеру и сделал несколько лёгких движений вперёд, разминая на ходу руки.
— Посмотрю я на вас, паныч, — совсем вы как тая птица. И совсем ну, как надо — человек. Такой длинноногий стали. А всего год назад этакий кныш были.
Севе это признание его «как надо человеком» очень польстило. Он подёргал себя за еле пробивающийся пушок на губе и солидно произнёс:
— Да, tempora mutantur[1].
Семён засмеялся.
— Вот же, разве я неправду говорил, что вы, как тая птица. И говорите по-ихнему.
Аисты заметили посторонних, заклекотали тревожнее и оставили свой танец.
Средний аист неторопливо кивнул окружающим, и вся стая, сделав несколько прыжков в одну сторону, распустила крылья и, точно взвешивая ими воздух, поджав ноги и вытянув шеи, плавно полетела вдаль. И красив, строен и важен был полет мирных свободных птиц.
Сева вздохнул, глядя им вслед, как будто жалел, что, действительно, не птица.
— Теперь едем, Семён, — пора.
Сел в коляску и лошади побежали рысцой.
II
Станция стояла одинокая, каменная, красная, и по обе стороны от неё разбегались рельсы и телеграфные проволоки; им-то и была обязана станция своим существованием. Станция имела два входа, для двух разных миров: внешний для того, который чаще всего лишь на минуту заглядывал сюда, мчась из неведомого далека в противоположную даль с громыхающим поездом — и другой — для того мира, который тихо и смиренно жил вокруг на этих бесконечных трудовых полях.