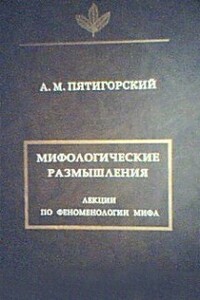Как делаются деньги? | страница 75
Однако если мы начнем разбираться в стоимости самого золота, дело примет куда более серьезный оборот и ускользающая природа реального вскоре станет очевидной. Из золота вытекает разница между стоимостью и ценой, но в нем же она и пропадает. Смит говорит о «бесспорных доводах», в силу которых люди в конце концов отдали предпочтение золоту и другим драгоценным металлам как определенным товарам, которые будут выполнять функцию денег. А Маркс пишет об эстетических свойствах золота и серебра, которые «делают их естественным материалом роскоши, украшений, блеска, праздничного употребления, словом, положительной формой излишка и богатства. Они представляются в известной степени самородным светом, добытым из подземного мира…»[115] По-видимому, эти почти магические свойства золота выделяют его в качестве «бога товаров»[116].
Действительно, описание стоимости золота у Маркса отличается двусмысленностью. Помимо указания на эти материальные свойства как на основу внутренней потребительской стоимости золота, Маркс иногда применяет свою трудовую теорию стоимости в том числе и к золоту. Согласно этой теории, подлинная стоимость товара выражается в количестве абстрактного рабочего времени, воплощенного в производстве товара. В случае золота подлинная стоимость товара выражается количеством труда, необходимого для добычи и обработки материала. В свою очередь, стоимость труда выражается в количестве товаров, необходимых для воспроизводства рабочей силы. В своей трудовой теории стоимости Маркс стремится установить абстрактное рабочее время в качестве «золотого стандарта» стоимости:
Теперь предположим, что для производства среднего количества жизненных средств, необходимых данному рабочему ежедневно, требуется 6 часов среднего труда. Предположим, кроме того, что 6 часов среднего труда воплощаются также в количестве золота, равном 3 шиллингам. Тогда 3 шиллинга будут ценой, или денежным выражением, дневной стоимости рабочей силы этого рабочего. Работая по 6 часов в день, он ежедневно производил бы стоимость, достаточную для того, чтобы приобрести среднее количество необходимых ему ежедневно жизненных средств, то есть чтобы поддерживать свое существование в качестве рабочего[117].
Измерение стоимости золота в терминах абстрактного труда является скорее усложнением, чем разрешением парадоксального отношения между деньгами и золотом. Рассуждения Маркса в этой цитате наталкивают на некоторые вопросы. Прежде всего: зачем кто-то станет мучиться с выкапыванием золота из земли в первую очередь? Если задача товаров в конечном итоге служить воспроизводству труда, что такого есть в золоте, что обеспечивает заинтересованность в нем как в товаре? Действительно, золото может быть использовано для покупки товаров, необходимых для воспроизводства труда, но это имеет смысл только после того, как золото уже было утверждено в качестве денег. Более того, использование рабочего времени как абстрактной меры стоимости требует различия между трудовой и нетрудовой деятельностью (отдых, потребление, воспроизводство). Возникают следующие вопросы: как мы можем знать, что производство «жизненных средств» среднего рабочего или производство золота, стоящего 3 шиллинга, требует 6, а не 8 или 10 часов труда? Откуда мы знаем, когда начать и когда остановить отсчет времени, когда измеряем количество труда, идущего на производство товара? Ответ дают сами деньги. Мы включаем таймер, когда рабочему начинают платить, и останавливаем, когда ему больше не платят. Сами по себе деньги служат критерием разделения рабочего и нерабочего времени. В дополнение к этому «денежное выражение» стоимости труда предоставляется только через неоспоримую предпосылку о том, что денежная стоимость золота тут же переводится в шиллинги. Это приводит нас к еще одному вопросу: не становится ли символизация золота через шиллинги возможной только тогда, когда денежная система, в которой золото уже отобрано на роль денег, уже установилась? Снова мы видим, что трудовая теория стоимости не может объяснить возникновение денег в виде золота.