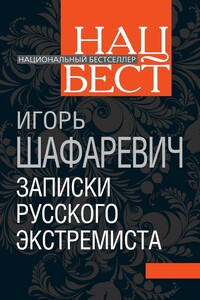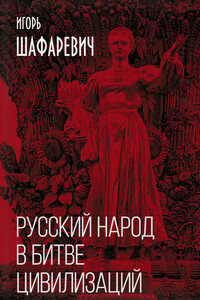Статьи | страница 24
В сборнике "Из-под глыб" Солженицын так же высказался на эту тему, а в номере сто двадцать пять "Вестник" опубликовал две статьи. Одну из них написал историк Вадим Борисов, который очень квалифицированно, профессионально разбирал всю эту антирусскую аргументацию и показывал не только её несостоятельность, а какую-то её поверхностность, почти хлестаковский характер её аргументов. Там, в частности, был такой эпизод. Борисов рассматривал одну работу Г. Померанца, где тот говорил, что с XV в. была широко известна в списках "Повесть о Дракуле" - молдавском государе, прославившемся своей изощрённой жестокостью. Померанц заключал из этого об "извращенности" русской души, читателя и переписчика, об их "садистическом восторге". Борисов, как профессионал, показывает, что переписчик известен это монах Ефросин, видный просветитель, один из культурнейших людей своего времени, и, анализируя само произведение, сопоставляя его с идеологией и терминологией литературы того времени, выясняет, что оно является обличением зла. С самого начала автор "Повести" сравнивает Дракулу с дьяволом. (Интересно, что последнее суждение высказано исследователем, компетентность которого в этой области вне сомнений. Повесть о Дракуле переиздана в 1982 году в издании "Памятники литературы Древней Руси". В комментариях Д. С. Лихачёва говорится: "Нет никакого сомнения в том, что образ тирана в "Повести о Дракуле" однозначный - это только отрицательное действующее лицо. (...( В нём нет положительных качеств. (...( Каждую свою жестокость Дракула сопровождает ироническим нравоучением. Это не восстановление справедливости, как думают некоторые современные читатели повести: это - насмешка, издевательство над жертвой...".)
В то время у меня и сложилось убеждение, что нельзя раз за разом только опровергать все эти нелепые выпады против русской истории, русского склада ума. Раз они появляются столь настойчиво и систематично - значит, должна быть какая-то подоплёка, и потому нужно исследовать исток этого явления, а не доказывать каждый раз, что тот или иной аргумент несостоятелен. Надо понять источник заболевания, а. не заниматься лишь его симптомами.
В конце 1977 года я начал этой работой заниматься.
- Известно, что вы вместе с академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым участвовали в правозащитном движении. Не могли бы вы рассказать о вашем участии в этом движении?
- У нас с ним совершенно разные ситуации, наши роли попросту несопоставимы. В моей общественной жизни связь с правозащитным движением была поверхностной и временной, а Сахаров был там центральной фигурой. Мне всегда казалось, что право - чрезвычайно важная сторона жизни, но не фундамент её. Право фиксирует некоторые нормы, которые среди людей сложились, и право сильно тогда, когда есть уверенность в этих нормах. Я помню, как покойный ректор МГУ Иван Георгиевич Петровский мне не раз говорил: "Законы - хорошая вещь, но самые лучшие законы не будут действовать, если не будет людей, которые готовы их выполнять". Право должно быть основано на некоторых глубинных связях с чувствами, человеческими принципами, которые вызывают высокий жертвенный порыв бороться за них. И в этом смысле мне кажется, что и правозащитное движение отчасти не было только правозащитным. Оно исходило из чувства человеческого достоинства, справедливости - весьма неправовых категорий, не юридических. А с другой стороны, перенося центр тяжести на правовую сторону, это движение становилось на слабую позицию.