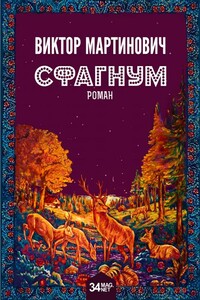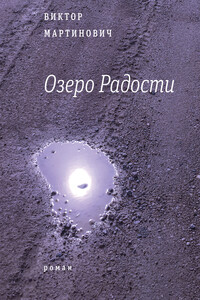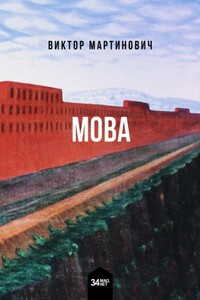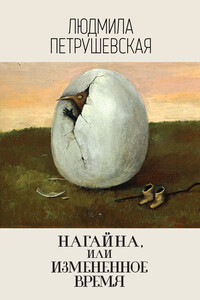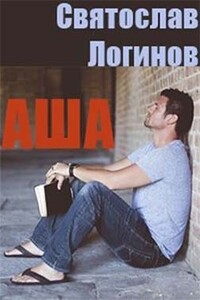Паранойя | страница 72
Гоголь. Рассказать тебе о детстве?
Лиса. Что первое приходит тебе в голову при этом слове: «детство»?
Гоголь. Дай подумать. Чернильная синева ночи…
Лиса. Чернильная синева? Это как?
Гоголь. Это как взгляд в чернильницу на просвет.
Лиса. Чернильница. Это бутылка с плодово-ягодным вином? Краситель для принтера? Метафора немножко скисла. Ее прибил прогресс!
Гоголь. Хорошо, темно-синяя, похожая на окантовку ярлычка Internet Explorer синева ночи…
Лиса. Ладно, хватит дурачиться. Я не буду перебивать.
Гоголь. Чернильная чернота ночи, с хрусталем созвездий над головой, и мама, огромная, теплая мама подставляет горячий, живой сосок, наполненный сонным молоком, но сосок еще нужно нащупать среди покрывшегося ледяной коркой, заиндевевшего меха. Тыкаешься в него своим влажным носом, и сгораешь от нетерпения, и мерзнешь, и дрожишь. Чуть позже — ныряние в полынью, трепетные вздрагивания враз перекушенной рыбины во рту, фосфоресцирующее, как будто на компьютере нарисованное, полярное сияние над головой, и главное — осознание того, что, какой бы долгой ни была жизнь, рыба в океане и мерцание сияния над головой не кончатся никогда… Блин, ну что ты делаешь!
Лиса. Анатолий Невинский: родился в семье полярных медведей, а общению с дамами учился в Институте картофелеводства, но я ведь с тобой серьезно! Я была с тобой искренна! Искрометно искренна!
Гоголь. А я тебя не скидывал с кровати.
Лиса. Давай рассказывай, медведь. И без дурашеств! Ну, серьезно!
Гоголь. Солнечный зайчик на огромных досках пола. Сонный полдень, мама готовит на кухне, а дома — такая тишина, что слышно, как трутся друг о друга пылинки в луче света. Хотя нет, не трутся, скорей — сталкиваются с едва слышным стеклянным звоном. Я лежу в солнечном пятне на полу, полностью в него поместившийся, закомпонованный, заключенный в него. Закрываешь глаза и видишь изнанку собственных век — ярко-красное марсианское марево в бесформенных радужных пятнах. Я, наверное, играл тогда в каких-нибудь солдатиков, но все ушло: остался только яркий, теплый, но не горячий свет, обнимающий меня на полу. Сейчас, пожалуй, для меня этот образ наполнен почти религиозным смыслом: я и солнце. Солнце не изменилось, даже доски пола все на своем прежнем месте, но эта детская открытость новому, не нуждающемуся в интерпретации, — ушла. Условно говоря, мне не лежать больше в том пятне света, не лежать с теми же мыслями, теми же сказочными замками, рисовавшимися в оранжевых облаках внутренней поверхности век.