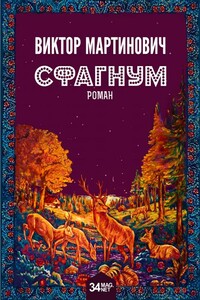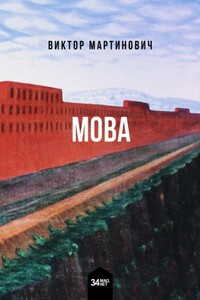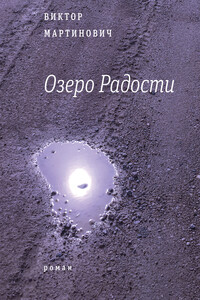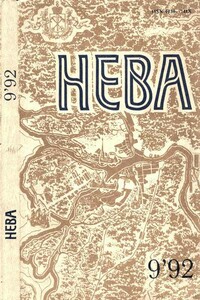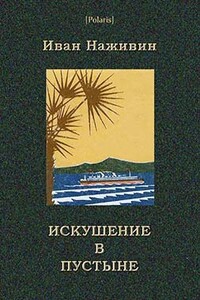Паранойя | страница 61
Лиса. Успокойся!
Гоголь. Да ну!
Лиса. Вот мои руки. В них — наш луг, с радугой. Милый, это мы.
Гоголь. Извини, извини. Слушай, но я правда не понимаю… Ты не знаешь, кто он? Тебе рассказать про то, как я встречался с вдовой Сераковского? Такая милая, худенькая женщина, поседевшая за месяц, с выплаканными глазами. Рассказать?
Лиса. Я не знаю, кто такой Сераковский.
Гоголь. Это — его исчезнувший враг. Он был и исчез. Интересно, да? В языке, кажется, нет частей речи, обозначающих эту безвозвратность. Язык понимает, как себя вести, когда человека убивают, язык в таких случаях предлагает целый ворох существительных: труп, вдова, траур. А как быть, если человек просто исчез? И язык разводит руками. Язык не готов, у него, у языка, ведь из алфавита буквы не выпадают. И я звонил, чтобы узнать ее телефон, — я чувствовал, что должен встретиться, чтобы поддержать, и — не знал, как ее назвать: «вдова Сераковского?» Так он же не убит, он — исчез! Полная языковая растерянность. И вот представь себе: он должен был вернуться одним промозглым утром, но не вернулся. И днем не вернулся. И вечером. Я когда с ней встретился, уже полгода прошло, уже всем все ясно было, а она его ждала и спрашивала у меня постоянно посреди разговора: «А правда, он может еще быть жив?» И я понимал, что надо отвечать, что правда, что может, что обязательно вернется.
Лиса. Я не хочу про это слушать.
Гоголь. То есть ты не знала, да? Не это тебя в нем привлекало?
Лиса. Милый, я прошу тебя, не надо!
Гоголь. Извини, я не могу сейчас не думать о нем, о вас. Скажи, вот эта животная сила, эта угроза в нем, эти сжатые зубы, этот кулак, которым трясет в телекамеру, — это тебе нравилось? Этот малиновый берет, эта военная выправка?
Лиса. Послушай меня внимательно. Это важно, и это все, что я тебе о нем скажу. Он никогда не поворачивается своей звериной стороной ко мне. Он умел… Очаровать, мягко. Он — прекрасный пианист. Французский, цветы, разговоры о кино. Я не видела его в краповом берете, в камуфляже, это все — не его. Изящные галстуки, запонки, которые он снимал перед тем, как начать играть, снимал и клал на крышку рояля, искристая мягкость. Он спокойный и тихий. Голос — совсем не такой, как по телевизору. Ай, хватит! Вот что: я в нем любила не его. Когда машет руками с трибун, когда страшно — бр-р! Я думаю, что искала в нем тебя. Все то, что существует в нем намеками, перемешано с черт-те знает чем, в тебе — в нужных количествах. Почему ты не появился раньше, ты-настоящий?