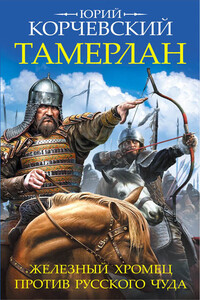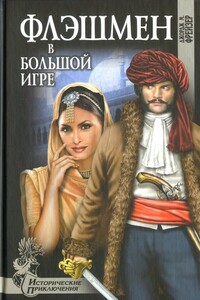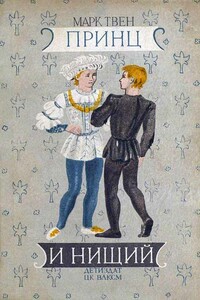Великий самозванец | страница 19
Вместо того чтобы благословить Годунова, владыко перекрестился сам, он подумал, что царь помешался.
Корифей замолчал, хор повёл смирный ексапостиларий, и Годунов возвысил голос, обращаясь ко всем отцам церкви.
— Вы усердно молились, учители православия, вы просили у Бога облегчения доли земли, послабления холода долгого, утоления глада великого. А теперь я спрошу: вы согласны ли сами ослабить узду? Отпустить на иные, богатые нивы скреплённых с владением вашим крестьян?
Священники обмерли, потом по крещатому полю саккосов и риз пробежал шепоток.
Подошёл протопоп Еуфимий, самый немощный, нарочито соня, опустился перед царём на колени.
— Надёжа православный, смилостивься, не лишай лавры и вотчины наши последнего утешения.
— Ах так? — усмехнулся Борис, сдержав негодование. — Ну, а кто ж вас утешит, таких горемычных, когда мужики перемрут?
— Ничего не умрут, мы прокормим, — выступил игумен Чудова монастыря, говорил как сквозь ужас. — Монастырских запасов покамест хватает. Мы ведь чувствуем, сколько крестьянину следует помощи выдать, чтобы он в изобилии сытости до весны смог дотянуть.
— Ах, как складно! — воскликнул Борис. — Но зачем же, коль крестьянам у вас хорошо, им не дать вольный выход раз в год? Коль у вас так вольготно, все пахари с вами останутся, да ещё и с иных-то земель прибегут?
— А вот это бы неплохо, — быстро сказал Еуфимий, ещё не вставая с колен. — Только боязно, — всё же вздохнул он, подумав, — мужик-то глупец, не укажешь ворот, стену лбом расшибёт.
— Ладно-ладно уж, лекари сердца моего, — смягчился Борис, поднимая с колен протопопа, — сохраняйте все крепости ваши по-старому.
Он призвал на молитву обедни всю церковь, чтобы только точнее понять место высших в задуманном деле. Глядя на горе священников, Борис выяснил: к знати мирской подступать даже нечего с этим — сожрут.
А вот боярских детей[19], не имеющих крупных хозяйств, наказать всё же можно: не сумел поддержать в лихолетье крестьянина — выпускай. Эти «вьюноши» помещены все на землях окраин да пустошей, их проклятия царю не страшны.
Иереи в смиренном благодареньи сложили руки, склонили перед Годуновым головы, а вставший на ноги Еуфимий даже воодушевился для нового слова.
— А сказать ли тебе, батюшка государь, за какие такие грехи-окаянства нас гнев Божий постиг или как его впредь можно точней отвесть?
Годунов терпел за неробкий нрав Еуфимия, не стал обрывать его.
— Раньше всякие бритые немцы, — убеждённо повёл протопоп, — по Москве опасались ходить! Поганка их Кокуй-слобода никакого почёта не знала! А нынче? Глянешь, едет возок. Что, боярский? Не то. Патриарший? Да и на то не похоже. Вот царю такой впору. Только кланяться — но и не царский. А чей? Тьфу, какой-нибудь твой англичанин, Жером аль немчин пахучий! Где же это привидано? Кирху себе возвели в слободе! Государь, оглянись, иноверцы с твово изволения ставят мольбища здесь! На земле православного Рима!