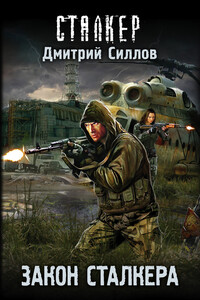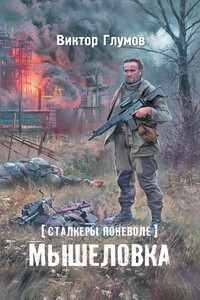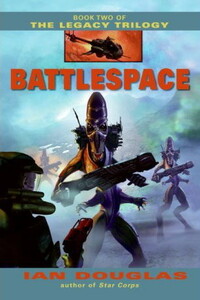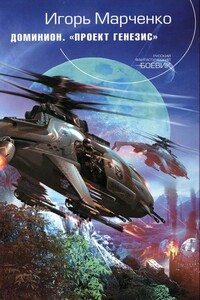Песня Птицелова | страница 45
Жрец остановился перед высоким частоколом, который издалека можно было принять за огромную бочку без верха. Внутри явно находилось что-то важное – ограда из тяжелых, заостренных на концах бревен выглядела неприступной крепостью. Жрец что-то прошептал и поясно склонился в паре метров от ограждения. Монахи, не выпуская Александра, повторили его движение – Сашка был вынужден поклониться вместе с ними. С легким механическим щелчком открылась калитка, совершенно неприметная в закрытом состоянии, являющаяся частью заборного круга.
Жрец поднял руку, монахи отпустили Александра, отступили на пару шагов, пропуская его вперед. Сашка подошел к жрецу, все еще не понимая, почему его увели так далеко от сияющего камня. Впрочем, загадка тут же разрешилась.
– Там Камень-глаз, который следит, здесь – Камень-сердце, который чувствует и повелевает. Наша святыня. Иди! – приказал жрец и втолкнул Александра внутрь.
После того как Сашка вошел, калитка снова негромко скрипнула и встала на место. Изнутри вход также был практически незаметен, частокол смыкался и выглядел единым полотном, без промежутков. Клаустрофобией Александр не страдал, но для пользы дела постарался у себя ее вызвать. Получилось достаточно легко: находиться в окружении заборного монолита было все равно что внутри банковского сейфа – сомкнувшиеся массивные стены всерьез давили на психику. Разве что нехватки воздуха можно было не опасаться: тяжелое и хмурое осеннее небо висело, казалось, над самым частоколом.
Сашка огляделся. Открывшаяся его взгляду картина удивляла и невольно разочаровывала. Камень-сердце выглядел гораздо менее эффектно, чем искрящийся «глаз» на плацу. В отличие от красного кристалла, наполненного ярким светом, главная часть действительно по форме напоминала огромное человеческое сердце, но выглядела, скорее, глыбой родонита с розовато-красными прожилками. Лишенный неземного свечения и огранки пришелец мог сойти даже за обычный кусок гранита.
А не так уж он и велик. Мысль банально спереть «святыню» и вывезти куда-нибудь подальше от зомбированной охраны, например, на большой тачке, чтобы без помех с ней разобраться, снова вернулась. Она была глупой, неуместной, и уж совсем не к месту вспомнился забавный случай – байка, услышанная во времена пограничной службы.
В конце девятнадцатого века к американским индейцам, в поселок на Аляске, прибыла делегация с благотворительной миссией. По странному стечению обстоятельств в тот момент в поселке не оказалось жителей – о том, куда они уходили, история умалчивает. Но факт остается фактом – место было пустым и безлюдным. Бездельникам-благотворителям от скуки пришла идея забрать с собой на память ни много ни мало – тотемный столб. Что они благополучно и сделали, предварительно распилив индейскую святыню на три части – иначе на корабль она просто не помещалась. По прибытии домой в Сиэтл столб собрали и водрузили его на городской площади, где он и простоял почти до середины двадцатого века. Потом случился пожар, и тотемный символ сгорел. Жители города были безутешны, так как за долгие годы привыкли к оригинальному городскому памятнику, он даже считался символом Сиэтла. Мэр города выделил серьезные средства на восстановление столба и сделал заказ копии у коренных индейцев. Деньги были торжественно вручены вождю племени. Шли месяцы, заказ не выполнялся. Мэр терпеливо ждал результата, а потом наконец поинтересовался судьбой своего заказа и оплаченных средств. Ответом ему было удивленное заявление индейских умельцев – они сочли переданные им деньги платой похитителей за давным-давно украденный столб, восстановлением справедливости. Главе Сиэтла ничего не оставалось делать, как признать факт воровства, а состоявшийся платеж – компенсацией за моральный ущерб. Со временем на изготовление копии городского символа была выделена новая сумма.