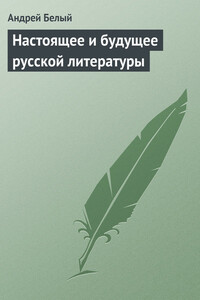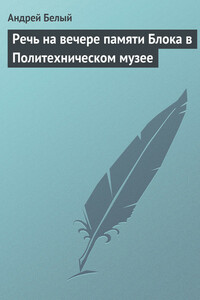Критические статьи | страница 7
В тесной связи с этими вопросами находится и проблема качества музыкально-тематического материала, его развития, проблема художественного мастерства. В произведениях второстепенных немецких композиторов Бородин постоянно отмечает «мелкость тем», «бесцветность музыки», рутинность. Таким образом, не только в своем творчестве, но и в критических статьях Бородин всегда обращает внимание на самобытность музыкального стиля, простоту и ясность мелодии, свежесть гармонии и оркестровки. Он никогда не забывает сочувственно отметить факт использования композитором народных тем. В его характеристиках стиля Глинки, Бетховена, Римского-Корсакова, Берлиоза и других везде указывается на оригинальность, художественное мастерство композитора в решении тех или иных задач содержания музыки. Это объективно противопоставляется падению содержательности и художественного уровня тогдашней западноевропейской музыки. Говоря, например, об отрывках из «Руслана», Бородин прямо и пишет: «Тут так и слышатся те „восточные орды“, нашествия которых на равнины рутинной немецкой музыки так боятся наши музыкальные Лоэнгрины» (с. 16).
Мы не касаемся многих интересных высказываний Бородина относительно классической музыки (Бетховен, Моцарт), анализа творчества Шумана, Шуберта, оценки ряда исполнителей (в том числе и сравнения братьев Рубинштейн) и т. д. — это существенно могло бы дополнить сказанное по вопросам творческого порядка и борьбы направлений. В статьях Бородина выражены и его более личные вкусы, с которыми подчас можно и не согласиться (см., например, его резко отрицательное высказывание об опере «Мейстерзингеры» Вагнера » т. д.).
Во всех суждениях Бородина выявляется зрелость мысли, ясность эстетической программы, настойчивость и последовательность в борьбе за реалистические принципы русской музыкальной школы. Именно эти качества музыкально-критических статей Бородина и позволяют говорить об их большом значении в истории русской музыкальной культуры.
В свое время, когда появились статьи Бородина, они вызвали определенную реакцию: противники полемизировали и не соглашались с ними, единомышленники же сочувственно ссылались на них. Но никто, кроме сотоварищей по «Могучей кучке», не знал, вероятно, что эти статьи принадлежат Бородину, хотя они и ясно отличаются от статей Кюи, тоже печатавшего свои статьи под псевдонимом. Псевдонимы Бородина («Б» и «ъ») впервые раскрыл Стасов, который собрал и опубликовал статьи Бородина в названной выше книге. Стасову же принадлежит и первая известная нам оценка значения критических работ Бородина, данная в той же книге и позднее в обобщающем труде «Искусство XIX века»