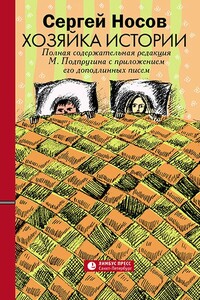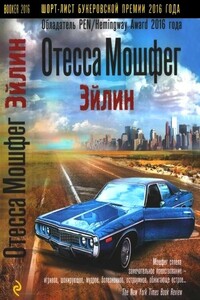Киппенберг | страница 10
И если в этот февральский день тысяча девятьсот шестьдесят седьмого я пренебрег формальностями, без стука нажал дверную ручку и ворвался в святая святых, как врывался некогда, на то были свои причины. Я даже чуть с грохотом не захлопнул за собой дверь, но под взглядом шефа притворил ее уже вполне благопристойно.
Те, кто знает профессора Ланквица, пожалуй, упрекнут меня в том, что я недооцениваю его как личность, и будут правы, поскольку лишь в последние годы я осознал все величие этого человека. Но раньше, когда с торы покатился первый камень, когда на горизонте моего бытия начали сгущаться тучи очистительной грозы, доктор биологических наук Киппенберг видел лишь ограниченность своего шефа. Будучи рассудительным и холодным тактиком, я тем не менее был не свободен от пристрастий и предубеждений, ибо ни один человек, уверенный в собственной непогрешимости, не способен справедливо судить о тех, от кого он находится в служебной — порой весьма для него тягостной — зависимости.
Шеф не на шутку испугался, когда я, словно дикарь, влетел в его кабинет. Рослый, дюжий человек, явно обуреваемый инициативой и жаждой свершений, который таким вот угрожающим образом вдруг возникает перед столом, всегда внушал Ланквицу панический страх. Между тем мой гнев почти бесследно улетучился под вопросительным взглядом шефа, я снова ощутил приступ нерешительности и странного бессилия, и несколько секунд мы в полном молчании созерцали друг друга.
На меня из-под мохнатых седых бровей глядели темные, бездонные глаза Ланквица, их взгляд напоминал мне родной взгляд Шарлотты. Ланквицевский лоб мыслителя, переходивший в крутой купол головы, был изборожден в эту минуту гневными складками. Ланквицу минуло шестьдесят три года. Шестьдесят три — это отнюдь не старость, но коронарные сосуды у него уже и тогда были не в лучшем виде. Три года назад он перенес инфаркт, до конца от него не оправился и частенько прихварывал. К тому же он отличался чувствительностью, я бы даже сказал, сверхчувствительностью, не выносил шума и крика, предпочитал мягкий приглушенный тон, учтивость, хорошие манеры. Кто не умел соблюдать форму, кто избирал неправильный тон, тот, будь это даже собственный зять, был Ланквицу не только глубоко антипатичен, но и внушал страх. Тут я очень кстати вспомнил, что для Ланквица я всегда был и оставался выскочкой, варваром, если хотите, и эта мысль подогрела мой остывающий гнев. Несмотря на свою нерешительность и даже скрытое бессилие, я сумел привести себя в боевое состояние духа.