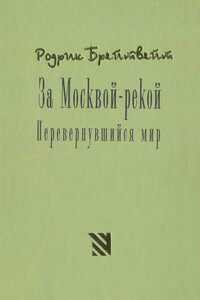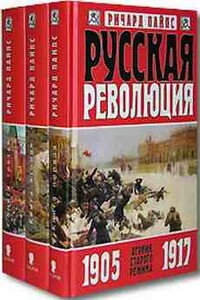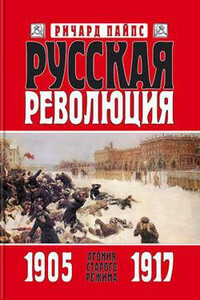Я жил | страница 25
Молодые люди могут довольно реалистично оценивать себя, и если ошибаются, то в сторону чрезмерной недооценки. Я быстро понял, что, несмотря на мою любовь к музыке, мои таланты, будь то игра на фортепьяно или сочинение музыки, были в лучшем случае заурядными. С глубоким разочарованием смотрел я на то, как мои сверстники учились играть на фортепьяно без малейших усилий и как они делали это намного лучше меня. В результате я с сожалением пришел к выводу, что хотя и понимаю мистический язык музыки, я никогда не научусь выражать себя на нем. Продолжая брать уроки вплоть до начала войны, я знал наверняка, что мне не суждено стать музыкантом, и бросил эти занятия после отъезда из Польши.
Но я нашел замену своему увлечению. Меня заинтересовало не рисование, скульптура или живопись, а история искусства. В один прекрасный день зимой 1937–1938 года (мне было тогда 14 лет) в Варшавской публичной библиотеке я листал иллюстрированную «Германскую историю средневекового искусства» и, пробегая глазами по характерным изысканным картинам Византийской эпохи, остановил взгляд на фреске «Снятие с креста» Джотто из капеллы дель Арена в Падуе. Эта фреска начала XIV века, одна из серии о жизни Иисуса, положившая начало европейской живописи, произвела на меня такое же сильное впечатление, как Седьмая симфония Бетховена. Горе стоящих людей, усиленное плачем ангелочков, взирающих с неба, было настолько убедительным, что я будто слышал звуки их стенаний. Это был настолько ошеломляющий эстетический опыт, что он пробудил во мне страсть к изобразительному искусству. Кеннет Кларк назвал бы это «моментом озарения». Я начал усердно изучать историю всех направлений изобразительного искусства — живописи, архитектуры, скульптуры — и делал большое количество записей. Я перевел с немецкого половину «Истории музыки» О. Келлера. Летом 1938 года, которое я провел в частном поместье в западной Польше, я вставал рано утром, садился за стол в старом парке и читал несколько страниц из учебников по истории европейского искусства. Мной никто не руководил, и моя учеба сводилась к изучению имен художников различных школ, дат их жизни и главных произведений, без какого — либо исторического и эстетического комментария. Интерес к этому предмету продолжался, в то время как амбиции музыканта исчезали, и когда в 1940 году я пошел в колледж, я собирался посвятить свою жизнь истории искусства. Эта страсть объясняет, почему я так рвался — довольно глупо — посетить Мюнхенскую пинакотеку, когда мы бежали из Польши.