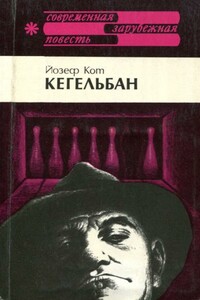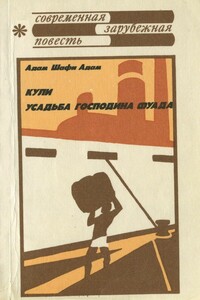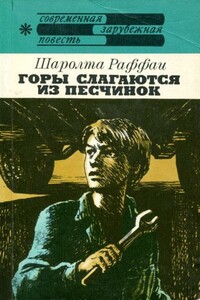Летний этюд | страница 59
Ты не думай, услышала Белла голос Йонаса, ребенок буравил ее своими испытующими глазенками, не думай, в девять я сегодня спать не лягу… Тут Белла расплакалась, оттолкнула его руку и убежала в дом.
Луиза села рядом с примолкшим надутым мальчишкой. Жара, что ли, так действует, ведь нынче она, кажется, еще злее обычного? Или в воздухе носится гибель?
Что-то переменилось.
Что-то должно было перемениться, сегодня мы твердим, будто знали, что так продолжаться не могло. Дома сгорели. Дружба ослабела, словно только и ждала какого-нибудь знака. Крик, застрявший у нас в горле, так и не исторгся. Из своей кожи мы не вылезли, вместо разорванных сетей сплели себе новые. Тонкие, как паутина, или толстые, как из канатов. И опять прошло много времени, пока мы их заметили. Но ведь и вы, наверно, не забыли, какой в то лето была Луиза, прежде чем ощутила в желудке крошечное уплотнение. Оно увеличивалось, твердело, вот уже стало с вишню, со сливу, потом с детский кулак, который крепко-крепко обхватил ее желудок, так что в иные дни было вообще невозможно принимать пищу. А она, ясное дело, все отрицала. Просто хочется поголодать, могла объявить она. Организм-де требует. И долго-долго ей удавалось скрывать от нас, что даже те крохи, которые съедала под нашими испытующими взглядами, она часто опять выташнивала. Нет, это началось не после отъезда Беллы. Это началось, когда Луиза стала догадываться, что Белла уедет. И заберет с собой Йонаса, и он будет для нее, Луизы, потерян. Пожалуй, она первая догадалась. Но не говорила об этом. Ее глаза сразу темнели, едва речь — озабоченно, но покуда с легкостью — заходила о Белле. И после того телефонного звонка: Ну так вот, чтоб вы знали: я уезжаю! — Луиза побелела как полотно и сказала: Вот видишь. Вот видите. — Ей вовсе не хотелось предугадывать людские пути-дороги. Что она могла поделать, если невольно растворялась и могла приютиться в сокровенных глубинах другого существа. Все, что она видела и знала, навсегда оставалось с нею. Она все вбирала в себя. Удивительно ли, что в конце концов не могла проглотить ни кусочка.
13
Кто хочет долго прожить с людьми, с одним человеком, думала Эллен, должен уважать чужую тайну. Кому же она это говорила? Она что, спорила в душе с кем-то, поневоле опять защищала себя или что-то для себя важное? В кухонное окно ей был виден Ян: вон он бродит, погруженный в себя. Нет, не в себя, а в свое занятие, хотя всего-навсего подбирает под яблоней сухие ветки. Ян, думала Эллен, лучше меня. Она сказала об этом Дженни, та не возразила. Эллен и Дженни наблюдали за Яном, за его топтанием на задворках: вот он погонял упавшее яблоко по земле, как футбольный мяч, пульнул в заросли бузины, — они только переглянулись, с одинаковым выражением в разноцветных глазах: ох эти мужчины! Дженни, убедительно разыгрывая огромную житейскую искушенность, любила наставлять маму в любовных делах. Эллен видела свои и ее руки на синей пластиковой столешнице — картина, которую она хотела запомнить, в пику горькому выводу о том, что все, все забывается, видела собственные руки, в тонких морщинках, а с недавних пор в коричневых пятнышках. Подступала старость. Она не делала из этого трагедии, до поры до времени. Дженни — она заметила по ее лицу — только сейчас разглядела, как изменились руки матери.