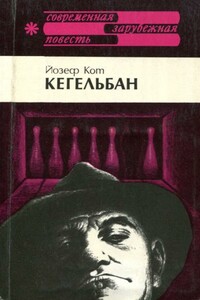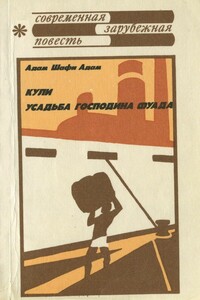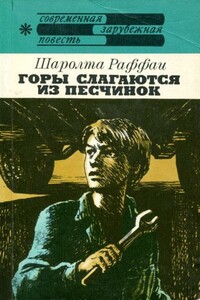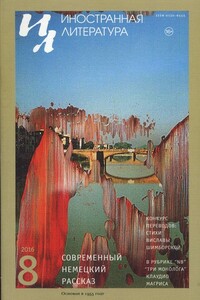Летний этюд | страница 45
Бесспорно, можно и так посмотреть. Приравнять неспособность действовать к вине. А вина в том, что они отказывались от своих планов и проектов, откладывали их, один за другим, поскольку все это с большими или меньшими издержками, более или менее грубо отметалось. Не мытьем, так катаньем — иначе вроде и не назовешь. Вот и прячься теперь туда, где ничто тебе не скажет, как сильно ты провинился, отрекаясь от себя.
Это, сказал Ян, бесполезное нытье. Всему свое время — во что-то верить и бороться за это; ощутить пределы собственных иллюзий; одуматься, взять новое направление и попробовать заняться другим.
Другое, сказала Эллен. Что же? Цветы выращивать?
Ян возмутился: А что бы ты хотела?!
То-то и оно, сказала Эллен.
Крушение, грустно подумала Луиза. Воздушный шар опять на земле. Она помогала Эллен мыть посуду, процедура была обстоятельная, требовала большого количества подогретой на плитке воды и сложной последовательности мисок, из которых Эллен скрупулезно воссоздала моечную систему, изобретенную ею — не один десяток лет назад — недалеко отсюда, в сенях такого же крестьянского дома. Беженские времена, вскоре по окончании войны. Эта вот миска, сказала она Луизе, которая с оббитым краем, уцелела еще с той поры. Как давно я об этом не вспоминала.
Луиза сказала: Знаешь, почему я давеча так перепугалась из-за бутылок? Я еще маленькая была, и однажды меня послали в подвал за вином, ладони от волнения взмокли, бутылки на глазах у родителей и гостей выскользнули из рук и разбились о кафельный пол. Ты не представляешь, какой это был ужас.
Луиза, не умевшая ненавидеть. А ведь ее взгляд пылал самым что ни на есть кровожадным огнем, когда она говорила об отчиме, наконец-то могла рассказать о нем, подумала Эллен. О бывшем офицере-подводнике. Ты же не знаешь, Эллен. Понятия не имеешь.
Может, она и правда не знала. Не имела понятия.
Когда они вышли на крыльцо, все сидели возле дома впотьмах, Дженни и Тусси стояли у забора, вернулись с велосипедной прогулки. Купаться по вечерам — полный бред. Луиза подхватила словцо, совершенно к ней не подходящее. Помните? Прошлогодний приезд Ирены и Клеменса она тоже назвала «бредовым». С самого начала все было до ужаса неправдоподобно, сказала она. Она стояла на кухне у плиты, в весьма легкомысленном одеянии, жарища ведь, рассказывала Луиза, как вдруг в кухню ворвался какой-то человек, в городском костюме, в белой рубашке, при галстуке (честное слово! — твердила Луиза), потный весь, запыхался, он спросил у нее — и все в спешке, торопливо, — как пройти к госпоже Доббертин. На улице дожидалась в такси Ирена. Я-то знала, с кем имею дело, и ему бы тоже не грех было знать. Ведь именно я нашла им жилье у госпожи Доббертин и написала, где ее дом, а где наш. Только ему и это не подсказка. Он был как угорелый, как чумовой от городской суеты и ничего не соображал. — А ты? Ты что, рот открыть не могла? — Да ни в коем случае. Я ему дорогу показала. — Она совсем оробела, сказал Клеменс. — И он тоже, сказала Луиза. — Ага. В непривычной обстановке он всегда робеет. — Зато после! После его как подменили. Через два дня он уже сидел у них на цоколе колонки и играл овцам на поперечной флейте. — А я, крикнула Ирена, я пела.