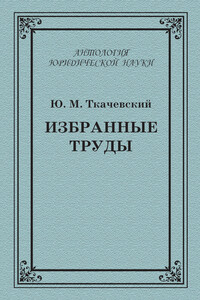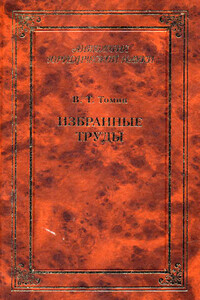Избранные труды | страница 36
В эксплуататорском обществе нет единой морали. Ф. Энгельс писал: «…каждый из трех классов современного общества, феодальная аристократия, буржуазия и пролетариат, имеет свою особую мораль…»[62]
Деяние, нравственное с точки зрения буржуазной морали, может быть безнравственно с точки зрения пролетариата. Но если в эксплуататорском обществе сосуществуют разные морали различных классов, то оно имеет только одно право, а поскольку преступление есть правовое понятие, постольку оно не может в эксплуататорском обществе быть основано на морали, ибо никакой единой морали в эксплуататорском обществе нет; но и морали эксплуататоров далеко не всегда соответствует то, что понимается под преступлением в действующем праве, и это вынуждены признавать даже буржуазные авторы.
Такого мнения придерживался, в частности, крупнейший русский буржуазный криминалист Н. С. Таганцев: «Преступное не может и не должно быть отождествлено с безнравственным; такое отождествление, как свидетельствуют горькие уроки истории, ставило правосудие на ложную стезю, вносило в область карательной деятельности государства преследование идей, убеждений, страстей и пороков, заставляло земное правосудие присваивать себе атрибуты суда совести».
«Действие, вполне правомерное, – пишет Таганцев, – может быть тем не менее глубоко безнравственным. Внешняя набожность как средство обмана, раздача милостыни из-за получения ордена не будут заключать ничего преступного, но можно ли признать эти деяния нравственными? Наоборот, воровство, учиненное единственно с целью оказать помощь лицу, глубоко нуждающемуся, спасти другого от нравственного падения, будет деянием наказуемым, но всегда ли заклеймим мы учинившего его эпитетом безнравственного человека?»[63]
Один из крупнейших английских криминалистов Д. Ф. Д. Стиффен спрашивал: «Признает ли право какую-либо систему нравственности за истину и как именно?» – и отвечал: «Право не утверждает ничего подобного, оно не имеет никакого дела до такой истины.
Право есть система исключительно практическая, изобретенная и поддерживаемая в видах известного существующего в действительности состояния общества… Право вполне независимо от всякой нравственной философии», и хотя суд «ссылается беспрестанно на нравственные чувства», но это делается «ради известных особенных целей»[64].
В марксистском понимании мораль не противопоставляется праву и не отождествляется с ним, хотя признается их взаимная связь, а в известных условиях и взаимозависимость. Если в условиях капиталистического общества преступление часто не признается аморальным поступком, даже с точки зрения морали господствующего класса, то иначе решается этот вопрос в условиях социалистического общества. Морально-политическое единство советского народа служит основой для одинаковой моральной оценки общественно опасных действий всеми советскими гражданами. В социалистическом обществе право само является выражением морали.